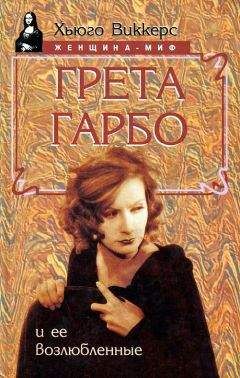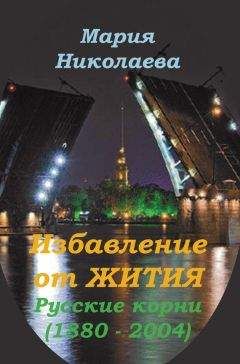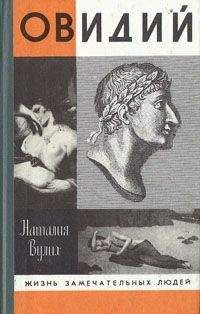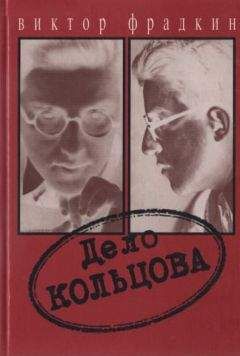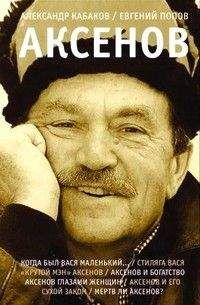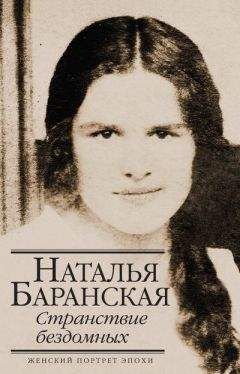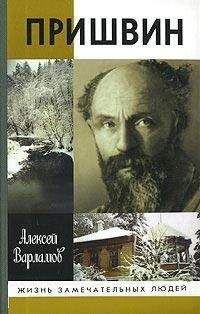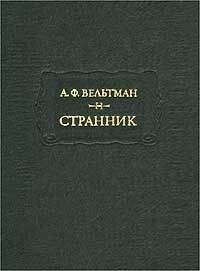Александр Николюкин - Розанов

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Розанов"
Описание и краткое содержание "Розанов" читать бесплатно онлайн.
Книга А. Н. Николюкина — известного исследователя жизни и творчества замечательного русского писателя и философа Василия Васильевича Розанова — основана на документальных и архивных материалах и впервые целостно представляет историю становления Розанова как художника и мыслителя.
В ней дана литературная характеристика всех значительных произведений писателя, отличавшегося нетрадиционным образом мышления. Перед читателем предстает вся панорама его творческого наследия. Многие важнейшие книги Розанова, созданные в 1913–1918 годах, впервые исследуются по рукописям и публикациям в 12-томном собрании сочинений В. Розанова.
Не обошел Розанов своим вниманием и обострения отношений Соловьева с Л. Н. Толстым. В письме Н. Я. Гроту 9 августа 1891 года Вл. Соловьев писал: «Я особенно теперь недоволен бессмысленною проповедью опрощения, когда от этой простоты сами мужики с голоду мрут». На это Розанов добавляет: «Действительно, проповедовать образованному классу России то „опрощение“, от которого мужики мрут в голодном тифе, — значит забывать всю реальную Россию под гипнозом евангельской проповеди о „невинности и простоте“, о чем-то „голубином“ и „младенческом“»[262].
Розанов упрекал Толстого в несвоевременности его проповеди, «несообразительности, переходящей в черствость». Соловьев, может быть, выступает как «мелкий публицист», но и глаз «мелкого публициста», говорит Розанов, «умеет разобраться лучше, чем глаз мудреца». Правда о жизни народа была для Василия Васильевича выше какого-либо авторитета, даже самого Толстого, 80-летний юбилей которого только что отметила тогда Россия.
Одна из записей «Опавших листьев» начинается словами: «Не понимаю, почему я особенно не люблю Толстого, Соловьева и Рачинского. Не люблю их мысли, не люблю их жизни, не люблю самой души. Пытая, кажется, нахожу главный источник, по крайней мере, холодности и какого-то безучастия к ним (странно сказать) — в „сословном разделении“» (93–94). Действительно, «сословное разделение» всегда вольно или невольно сказывалось в суждениях Василия Васильевича, в его вкусах и склонностях. Он не был «беспристрастным» человеком.
Еще определеннее «нелюбовь» к Соловьеву раскрывается в другой записи «Опавших листьев»: «Вл. Соловьев написал „Смысл любви“, но ведь „смысл любви“ — это естественная философская тема: но и он ни одной строчки в десяти томах „Сочинений“ не посвятил разводу, девственности вступающих в брак, измене, и вообще терниям и муке семьи. Ни одной строчкой ей не помог» (328). Для автора «Семейного вопроса» — книги Розанова, на которую совершенно не обратили внимания современники, — эта черта жизни и сочинений Соловьева была совершенно неприемлема.
Соловьев был мастером «мгновенных слов» — записочек, шуток, каламбуров и изречений, какие он в течение всей жизни бросал не в корзину, а в карманы друзей своих, просто знакомых и даже едва знакомых, как вспоминает Розанов. Главной особенностью, которой Соловьев привлекал к себе любопытных, была затаенная мысль о «душе мира» — любимое понятие писателя.
Другое почти что крылатое выражение Соловьева Розанов припомнил в связи с полемикой в «Русской мысли» по национальному вопросу: «Влад. Соловьев был больше мастером философских софизмов и софистических словечек, нежели мастером философских понятий. В грубой полемике своей против Н. Я. Данилевского и его книги „Россия и Европа“ и против Н. Н. Страхова и его сочинений — „Борьба с Западом в нашей литературе“ он употребил термин „зоологический национализм“: и хотя это было в 1893–1894 годах минувшего века, его вот и до сих пор словечко не только не умерло, но перебегает поджигательным огоньком в журнальных и газетных полемиках»[263].
Розанов справедливо подметил, что если, беря в руки какое-нибудь сочинение Белинского или Чернышевского, берешь вместе с тем и всю его «душу», то единичное сочинение Соловьева — всегда обращение к публике по данному вопросу, за которым какова вообще его душа — неизвестно. «Душа» же его если и выразилась, то лишь во всей массе его сочинений, да и то не вполне, не окончательно.
Он не был, как отмечает А. Ф. Лосев, ни славянофилом, ни западником. «Соединить, слить, связать Notre Dame de Paris с Кремлем» — вот идея Соловьева. Слить величайшую поэзию, величайший пафос, самую «душу» Запада и его католичества с самою «душою» Востока, с «святою православною душою», в ее лирике, в ее экстазе, как она выразилась в одном слове в четыре буквы: «Царь»[264]. Так писал о нем Розанов и в таком смысле он был одновременно и западником, и славянофилом, любил и ненавидел «тем холодным презрением и тою холодною любовью, которая неотделима при уверенности: „все это пройдет и всего этого не нужно“».
Споривший со славянофилом Хомяковым Соловьев в чем-то весьма существенном и продолжал его. Острый, волнующийся, вечно досадующий ум Соловьева «прошелся „ледоколом“ по нашему религиозному формализму»[265], говорил Розанов. В этом историческое значение и сила его.
В воспоминаниях о Соловьеве Розанов рассказывает историю, проливающую свет на его философский метод и дающую живое представление об этом человеке. Еще в некрологе Соловьеву, написанном Розановым для «Мира искусства», появилось определение его мировоззрения как эклектического. По этому поводу Розанов тогда же отметил в сноске, что в оставшейся ненапечатанной статье своей «Схема развития славянофильства» он, по просьбе Соловьева, заменил в характеристике общего склада его ума слово «эклектизм» на слово «синкретизм».
Позднее Розанов рассказал этот достопамятный эпизод подробнее, «в лицах»: «В пору участия в „Мире искусства“ я написал маленькую статью „Классификация славянофильских течений“. Заглавие было другое, но тема — эта. В конце ее было указано и „место Влад. Соловьева“, так как уже постоянным интересом к церковному вопросу он, несомненно, принадлежал к славянофильскому крылу русской литературы, чуждой церковного интереса во всяческих своих „крыльях“ и всем вообще „оперении“ и в целом теле. Рукопись (затерявшуюся потом у Д. В. Философова, соредактора „Мира искусства“) я показал Влад. Соловьеву, только что тогда со мною познакомившемуся. Он ее принес мне через неделю с одобрением и с просьбой изменить только одно слово.
— Какое?
— Вы даете мне историческое положение эклектизма…
— Ну, да! У вас есть много славянофильского, и в то же время вы — пылкий западник. Вы православный и в то время защищаете католичество. Когда вы полемизируете с позитивистами, — вы выступаете как христианский философ или, по крайней мере, как представитель немецкого философского идеализма, а когда вам надо поразить профессоров духовной академии или Грингмута и „Московские ведомости“, или Достоевского и Страхова, — вы говорите жестким языком позитивистов и естественников, их тезисами, их аргументами, их смехом. Вы ни в одном лагере, и в то же время принадлежите ко всем, смотря по моменту борьбы и позиции воина. Я не осуждаю этого и вообще не вмешиваюсь в это, а только определяю это как эклектизм.
— Против определения я не спорю, а только хотел бы, чтобы вы употребили другое слово — синкретизм.
— Это еще что за зверь?
— Почти то же, что „эклектизм“, но другого оттенка. Эклектизм есть внешнее приспособление вещей друг к другу, понятий друг к другу, философских систем друг к другу. „Эклектик“ обычно не имеет никакой своей идеи… Синкретизм же совсем другое. В философии Кузен был эклектик; но если вы будете читать историю греческой философии, то вы найдете там целые эпохи синкретизма, когда дотоле раздельно и противоположно существовавшие философские течения неудержимо сливались в одно русло, в один поток, преобразовывались в одно более сложное и величественное учение»[266].
Называя себя синкретистом, а не эклектиком, Соловьев «конфузился при этом, беря себе выше ранг», в отличие от нынешних наших идеологов, выдающих свою эклектику за стройную теорию. Что касается Розанова, то он согласился с Соловьевым и немедленно поправил одно слово. Видимость согласия между столь несхожими писателями и людьми была как бы установлена.
Итоговую характеристику Соловьева и своего отношения к нему Розанов высказал в «Мимолетном»: «Многообразный, даровитый, нельзя отрицать — даже гениальный Влад. Соловьев едва ли может войти в философию по обилию в нем вертящегося начала: тогда как философия — прибежище тишины и тихих душ, спокойных, созерцательных и наслаждающихся созерцанием умов. Соловьев же весь был шум и нельзя отрицать — даже суета. Самолюбие его было всепоглощающее: какой же это философ? Он был ПИСАТЕЛЬ — с огромным вливом литературных волнений своих, литературного темперамента — в философию. Он „вливался“ в философию, как воды океана вливаются в материк заливами, губами и всяческими изгибами: и пенился, и плескался, и обмывал „философские темы“ литературным языком и литературною душою»[267].
Особенно удивляли Розанова горячность и неуемность Соловьева, «верный ветер», пронизывавший его жизнь. Его сочинения он сравнивал с «падучими звездочками» в вечном философском небе — и каждая из них переставала гореть раньше, чем успеешь сказать «желание». Что-то мелькающее, что-то преходящее. И при этом его «желание вечно оскорблять». «Какой же это философ! — восклицает Розанов, — который скорее ищет быть оскорбленным или равнодушен к оскорблению и уж никогда решительно не обидит другого. Его полемика с Данилевским, со Страховым, с (пусть нелепыми) „российскими радикал-реалистами“, с русскими богословами, с „памятью Аксакова, Каткова и Хомякова“ до того чудовищна по низкому, неблагородному, самонадеянно-высокомерному тону, по отвратительно газетному языку, что вызывает одно впечатление: „фуй! фуй! фуй!“»[268].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Розанов"
Книги похожие на "Розанов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Александр Николюкин - Розанов"
Отзывы читателей о книге "Розанов", комментарии и мнения людей о произведении.