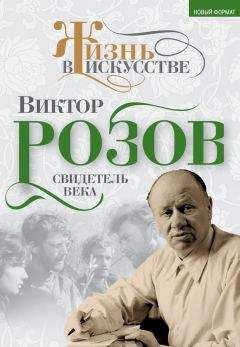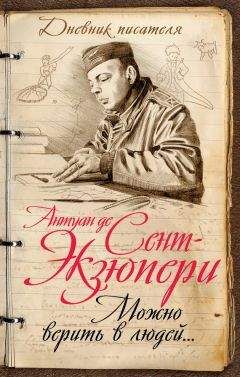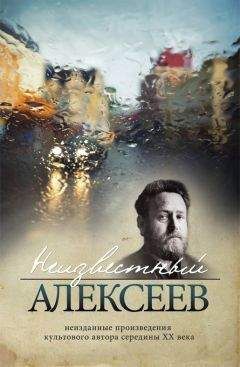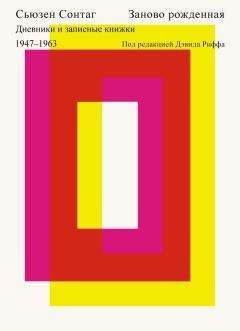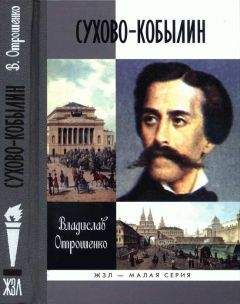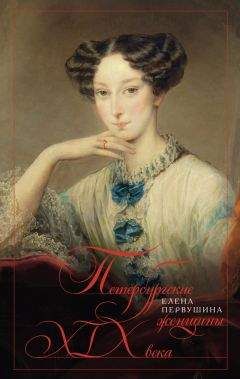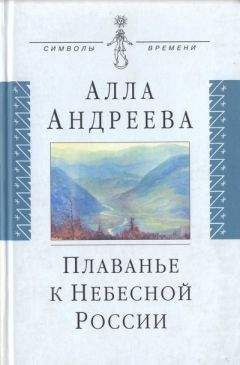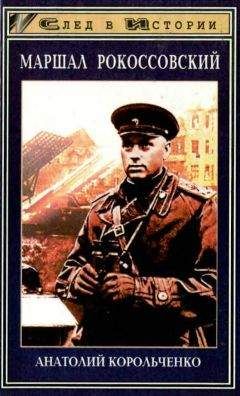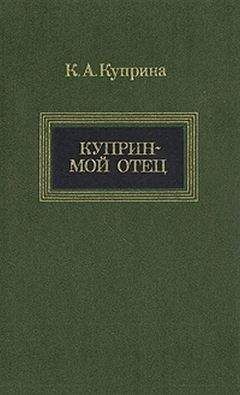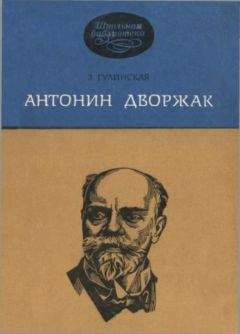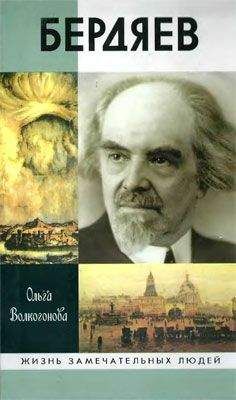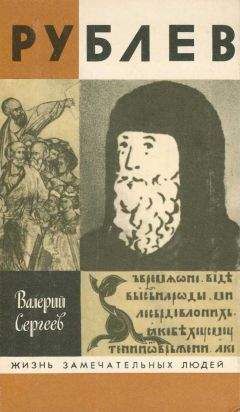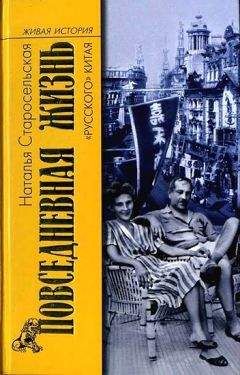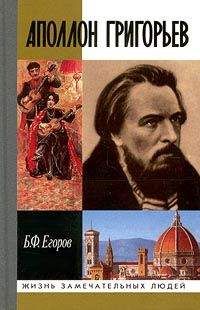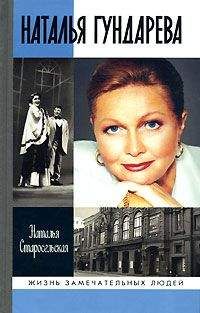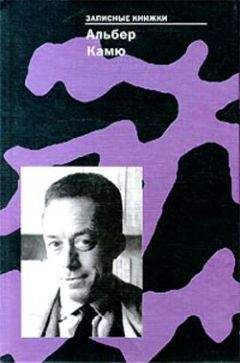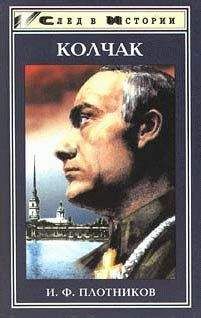Наталья Старосельская - Сухово-Кобылин
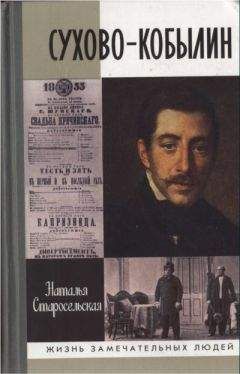
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Сухово-Кобылин"
Описание и краткое содержание "Сухово-Кобылин" читать бесплатно онлайн.
Книга известного литературного и театрального критика Натальи Старосельской рассказывает о жизненном и творческом пути замечательного русского драматурга Александра Васильевича Сухово-Кобылина (1817–1903). Его трилогия — «Свадьба Кречинского», «Дело» и «Смерть Тарелкина» — более века не сходит со сцены русских и зарубежных театров. А. В. Сухово-Кобылин был не только драматургом, но и выдающимся мыслителем и философом. Его дневники, записные книжки и философские труды, в частности, сохранившиеся фрагменты «Учения Всемир» позволяют установить связь различных явлений и их отражение в творчестве писателя, проследить эволюцию его взглядов на политические и экономические события в России XIX века, а также на отечественную культуру не только XIX, но и XX века. Трагические перипетии в судьбе Сухово-Кобылина могли бы послужить сюжетом для детективного романа.
С долей раздражения он записывает в дневнике после одного званого обеда, на котором собралось поместное дворянство: «Я развивал в первый раз положение, что дворяне находятся в следующей ситуации: из рук их взята одна ценность-земля. Мы знаем, чего она стоит, и дана другая — право, но мы знаем, что оно ничего не стоит, ибо в России ни прав, ни закона, ни суда, ни расправы нету. В этом положении немых баранов мы оставаться не можем».
В исследовании начала XX века «Общественное движение при Александре II (1855–1881)» его автор, А. А. Корнилов, отмечает, что в период подготовки крестьянской реформы мыслящая часть русского дворянства выступала за освобождение крестьян с землей. Но вызывало закономерную тревогу то обстоятельство, что готовившие реформу чиновники всеми силами стремились устранить дворянство, заменив его влияние на крестьянское общественное управление расширяющейся административной властью. Так во второй половине 1850-х годов особенно резко выявилось противостояние дворянства и бюрократии.
Для Сухово-Кобылина же дворянство было и оставалось всегда не просто частью общества, а носителем исторической ответственности за свою страну, наделенным кодексом твердых понятий о чести и долге. И главное — призванным осуществлять незыблемые связи с землей и крестьянством.
На глазах Александра Васильевича слабели эти связи, размывались твердыни кодекса, а потому все реже и реже находил он в себе черты общности со своим классом, глубже осознавая вырождение, полное нравственное опустошение тех, с кем некогда он мог спокойно и свободно общаться на светских раутах, в клубе. Ведь это они, представители дворянства, охотно принимали на себя функцию звеньев чиновничьей, бюрократической цепочки, медленно, но уверенно опутывавшей всю страну. Самые страшные персонажи «Дела» — Важное лицо, Весьма важное лицо — это выходцы из дворян, из класса, к которому принадлежал, гордясь этим еще совсем недавно, Сухово-Кобылин.
После одного из обедов в Английском клубе Сухово-Ко-былин делает запись в дневнике: «Какой, — все эти люди, — мне чуждый мир! — Я никого не знаю… взглянувши на эту фалангу советников, начиная от действительно тайных и кончая мнимо тайными и псевдо-действительными, как, например, титулярный, я искреннейше благословил небо, что оно меня избавило от чаши служебной, и поблагодарил себя, что я от нее отошел…»
В 1857 году на страницах герценовского издания «Голоса из России» была опубликована безымянная записка «Об аристократии, в особенности русской». Она принадлежала перу правоведа и историка Б. Н. Чичерина.
«Голос общественный, голос правды не допускается, независимые метания преследуются, — писал он, — все должно безмолвствовать и кланяться как будто из почтения к царю, а в сущности для пользы и по наущению царедворцев, которые при такой только системе могут сохранить свое место и значение. Эта новая форма аристократии едва ли не опаснее для государства прежних бояр». Под этими словами мог бы поставить свою подпись и Александр Васильевич — Важные лица, Весьма важные лица вышли из «своих», вчерашних «лютейших аристократов», тех, кто казались равными не только по происхождению, но по образу мысли, по душевному складу.
Как же сильна была его ненависть к этим людям, опорочившим свое сословие!..
Поэтому отчасти и происходит действие «Дела» не в Москве (как в «Свадьбе Кречинского»), а в Петербурге — средоточии бюрократического разгула, «безнародном» городе, возросшем не на плодородной земле, а на болоте, отравленном вредными испарениями.
Возникла угроза крестьянских бунтов — она была нешуточной, из разных концов России приходили известия о смуте. «Вести неблагополучные из Петербурга, ибо, говорят, там начинаются смуты помимо бывших недавно в университетах, а крестьяне вообще расположены к смутам в том смысле, что им не только хочется прибрать землю, состоящую под ними, в свои руки, но вдобавок они все толкуют о том, что если царь захочет, то всю землю разделит промеж мужиками, что он-де хочет, а дворяне не хотят, — записал Сухово-Кобылин в дневнике 20 октября. — Так как в России класс собственников чрезвычайно малочислен, то подобные идеи могут охватить всю страну, и тогда действительно могут произойти трагичные последствия. Мне, естественно, пришло в голову мое положение с разбросанными имениями и крайняя шаткость и рискованность всего состояния при крайней запутанности дел, в которых теперь я нахожусь, мне ясно представилась необходимость продать Лучки и даже Ливенскую, чтобы усилить и устроить мое имение во Франции, как укромный уголок, куда во время смут можно было бы укрыться».
Подобное настроение отнюдь не говорит об Александре Васильевиче как о человеке трусливом и слабом. Ему все еще хотелось жить, несмотря на преследовавшие его трагедии. Это ли не естественно?..
«Моя впечатлительность, — писал Сухово-Кобылин, — доходит до крайних пределов. Мне почти невозможно заниматься делами. Впрочем, и дела тяжелые. К тому общее разорение дворянства очень сильно на меня действует. Этот мир весь рушится или, лучше, уже разрушился — и меня качает. Я этой качки выносить не могу и в то же время сам не знаю — куда идти — где жить — где основываться?»
М. Бессараб в своей книге приводит анекдотичный случай, свидетельствующий о том, насколько боялся Александр Васильевич «мужицкого бунта».
«Издавна повелось, что в день его именин (по святцам 30 августа, на Александра Невского) для крестьян Кобылинки выкатывали бочку вина, резали быка, пекли пироги, раздавали конфеты и орехи. К усадебному дому приходили на праздник и крестьяне соседних деревень — пир шел горой. Так продолжалось до тех пор, пока однажды двое крестьян, которые вернулись из солдатской службы, Горецкий и Сачков, не вздумали качать именинника. Александр Васильевич пережил неприятные минуты — когда они схватили его, он подумал, что его хотят убить».
После этого именин Сухово-Кобылин больше не праздновал. По крайней мере, в деревне.
Случай и впрямь анекдотичный, но вряд ли стоит делать из него далеко идущие выводы. Сухово-Кобылин был помещиком деятельным, как не раз уже говорилось, своими руками сажал леса, не боялся полевых работ, мастерски столярничал, поэтому крестьяне с годами относились к нему все лучше и лучше, испытывая к своему барину подобие уважения. А в год, когда умерла Мари и в Кобылинке была построена церковь, крепостные особенно сочувствовали своему помещику, которого, как они искренне считали, словно сглазил кто-то. С. А. Переселенков услышал впоследствии от крестьян Сухово-Кобылина: «Строгий был, но справедливый. Что попросишь, всегда даст».
Летом 1861 года Александр Васильевич распространяет «Дело», читая свою пьесу в различных литературных кружках Москвы. Но ответа из цензуры нет, все чаще Сухово-Кобылина посещают горькие мысли: «Очень странное мое Литературное современное положение: с одной стороны, Симпатия к моим пиэссам большая, популярность их огромная и, говоря о пиэссах, их постоянно ставят рядом с Ревизором и Горе от ума, но относительно меня как Личности и Таланта совершенное равнодушие — точно эти пиэссы не мои, а так достались мне по наследству от отдаленного родственника, и будто я вор, их только напечатал. Очень интересна еще деталь. В Русской речи за несколько нумеров сделана заметка относительно помещенного в иллюстрации известия о моей пиэссе, в которой опровергается содержание, приписываемое пиэссе, и очень скромно добавляется о том, что пиэсса эта имеет свои достоинства».
В декабре из цензуры пришел ответ — «Дело» было запрещено безоговорочно. Собственно говоря, Александр Васильевич ничего другого и не ждал. И хотя многие исследователи настаивают на том, что известие подействовало на него сокрушительно, думается, Сухово-Кобылин воспринял его двойственно.
1 января 1862 года он записал в дневнике: «…Мне 44 года. У меня уже все было и все вышло — и я в себе спокойно сомневаюсь, т. е. не признаю за собой никакого таланта. Мысль эта овладела мною с большой силой после осечки, учинившейся с Делом. Я думал, что, показавшись в 25 экземплярах, оно сделает шум и приобретет такую силу, что заставит себя пропустить на сцену — что явятся фанатики, целая партия, и она протащит Дело в свет и сделается все — ничего этого не вышло. Правда, Яшвиль был очень восхищен и знал почти наизусть и побегал, но ничего не сделал. Дело запрещено и для Сцены и для Печати. Были журналы, которые могли бы об этом сказать слово — но и они ничего не сказали. Дело покуда кануло в Лету».
Но есть в дневнике и такая странная запись: «Встал в 5 часу: отлично. Я как будто освободился от какой-то внутренней гири… пишу эти строки — еще ночь, ветер гудит и стучит ставнями — я взялся за свою Логику».
Параллельно с философским трудом Сухово-Кобылин занимается переводом сочинений Гегеля и обобщает оценку исторических форм общественной жизни России. Предположительно именно в это время (по мнению исследователя И. М. Клейнера) он делает характерную запись в дневнике: «Что это у русских за китаеобразное сентиментальничанье нравственностью, что за легкость (на бумаге, а не на деле) раскаиваться и делаться добрым, благородным. Мне кажется потому, что это кажется им так легко, потому-то им оно и невозможно, и потому собственно они и суть самые неизлечимые мошенники, взяточники, воры, лгуны и лицедеи».
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Сухово-Кобылин"
Книги похожие на "Сухово-Кобылин" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Наталья Старосельская - Сухово-Кобылин"
Отзывы читателей о книге "Сухово-Кобылин", комментарии и мнения людей о произведении.