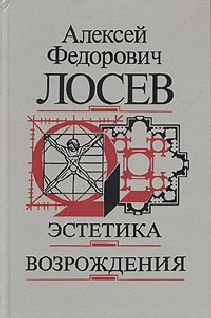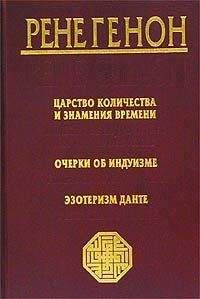Алексей Лосев - Очерки античного символизма и мифологии
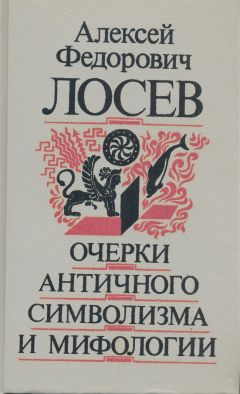
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Очерки античного символизма и мифологии"
Описание и краткое содержание "Очерки античного символизма и мифологии" читать бесплатно онлайн.
Вышедшие в 1930 году «Очерки античного символизма и мифологии» — предпоследняя книга знаменитого лосевского восьмикнижия 20–х годов — переиздаются впервые. Мизерный тираж первого издания и, конечно, последовавшие после ареста А. Ф. Лосева в том же, 30–м, году резкие изменения в его жизненной и научной судьбе сделали эту книгу практически недоступной читателю. А между тем эта книга во многом ключевая: после «Очерков…» поздний Лосев, несомненно, будет читаться иначе. Хорошо знакомые по поздним лосевским работам темы предстают здесь в новой для читателя тональности и в новом смысловом контексте. Нисколько не отступая от свойственного другим работам восьмикнижия строгого логически–дискурсивного метода, в «Очерках…» Лосев не просто акснологически более откровенен, он здесь страстен и пристрастен. Проникающая сила этой страстности такова, что благодаря ей вырисовывается неизменная в течение всей жизни лосевская позиция. Позиция эта, в чем, быть может, сомневался читатель поздних работ, но в чем не может не убедиться всякий читатель «Очерков…», основана прежде всего на религиозных взглядах Лосева. Богословие и есть тот новый смысловой контекст, в который обрамлены здесь все привычные лосевские темы. И здесь же, как контраст — и тоже впервые, если не считать «Диалектику мифа» — читатель услышит голос Лосева — «политолога» (если пользоваться современной терминологией). Конечно, богословие и социология далеко не исчерпывают содержание «Очерков…», и не во всех входящих в книгу разделах они являются предметом исследования, но, так как ни одна другая лосевская книга не дает столь прямого повода для обсуждения этих двух аспектов [...]
Что касается центральной темы «Очерков…» — платонизма, то он, во–первых, имманентно присутствует в самой теологической позиции Лосева, во многом формируя ее.
"Платонизм в Зазеркалье XX века, или вниз по лестнице, ведущей вверх" Л. А. Гоготишвили
Исходник электронной версии:
А.Ф.Лосев - [Соч. в 9-и томах, т.2] Очерки античного символизма и мифологии
Издательство «Мысль»
Москва 1993
2. Но и второе свойство диалектического метода — спекулятивное погружение в созерцаемое понятие — у Фалеса налицо. Именно потому, что у него еще нет никаких гносеологических вопросов и сомнений, что у него полная доверчивость созерцаемому Бытию, — он и есть созерца–тель–спекулятивист в наиболее нетронутой и естественной форме. Как Платон два века спустя, так и Фалес жадно и страстно созерцает; и тайны, зримые в этом своеобразном мистическом «рационализме», он повествует. Как Платон два века спустя, всматривается он в свое Единое, не умея еще его так виртуозно называть и изображать, — для того, чтобы вывести из него «иное» и весь становящийся мир. Это тот же диалектический метод, данный, однако, как чувственная интуиция и миф\ диалектика — образа, и мифа; наука, επιστήμη, — составленная из натуралистических наблюдений.
3. Наименее дано у Фалеса третье свойство диалектического метода — нахождение различия и противоречий на лоне созерцаемого Понятия. Хорошо отмечает, напр., Ник. Гартман [191] участие Фалеса в истории понятия бытия. Интересно и то, что Аристотель находит у Фалеса в качестве единственного принципа не просто «материю» (υλη), но — έν υλης εΐδει, «в форме материи», или, лучше перевести, «в образе материи», в эйдосе материи. Это, как правильно утверждает Н. Гартман, гораздо больше, чем просто ΰλη. Здесь несомненна тенденция к понятию чистого бытия. А в связи с этим и έξ ού — «то, из чего» — у Аристотеля[192] получает некоторый тоже смутно–диалектический оттенок. (Впрочем, ввиду противоречия Симплиция, приписывающего Фалесу понятия сгущения и разрежения наряду с Анаксименом, и Теофраста, можно вместе с Цел–лером [193] сомневаться в наличии всей этой проблемы у Фалеса.) Итак, физицизм здесь наиболее сказался. Но если не дан путь диалектики, то даны отдельные пункты этого пути — Пространство, Время, Божество, Судьба, — мыслимые, конечно, еще только как духовно–телесные, мистически–символические сущности и не связанные в единое древо Диалектики.
Короче говоря, мышление Фалеса не есть ни наука, ни религия, ни отвлеченная философия. Это — мистический опыт, зацветающий роскошным покровом мифа (а). Поэтому, уже в самом начале (а если бы это была наука или отвлеченная философия, обобщение, то это мы нашли бы не в самом начале, а в результате длительного развития мысли) мы находим под мифическим покровом сказаний о воде целую систему идей, за которым не мог угнаться эмпирический и индуктивный рассудок (b). А именно, мы находим идею единства всего, идею неуничтожимости всего, идею антитезы индивидуальных вещей и безликих стихий, идею всеобщего одушевления и идею всеобщей божественности, причем все эти идеи сливаются в одно учение о Боге как имманентной сущности всякого становления, в учение о тождестве Бога, Мира, Разума и Души, как общего, исходного диалектического Понятия–Λίαψα (с). В аспекте первичном эта слепая, божественная Мощь есть Необходимость, Судьба, Время, Пространство, Божество и Бесконечность; в аспекте вторичном она — светлый и оформленный мир богов, людей и вещей; и там и здесь — живая плоть божественного мира, живое и ясное, текучее и прозрачное, влажное Понятие (d), поддающееся даже некоторой возможности диалектического ознаменования (е).
Все, что сказано о Фалеев, относится ко всей греческой философии — независимо от ее натурализма или идеализма. Из понимания мира как Эйдоса или Логоса греческая мысль не вышла даже в натурализме.
Будем продолжать всматриваться в этот мифически–символический, эйдетический натурализм.
II. АНАКСИМАНДР
6. Двойственность понятия бытия. Уже у Анаксиманд–рау хотя он моложе Фалеса всего на 40 лет, философская мысль значительно прогрессирует. Анаксимандр принимает в качестве начала вещей — Беспредельное, Άπειρον. Сколько ни спорили об этом понятии у Анаксимандра, но получить желаемый результат ясности почти никому не удавалось. Четыре основных типа понимания Беспредельного— как аристотелевской υλη[194], как «смеси» всех стихий, как «среднего» между стихиями и как некоей неопределенной природы — грешат: первое — привнесением поздних понятий в столь раннюю, как ионийская, физику; второе — нарушением чистоты беспредельного и эмпедо–клизмом; третье — произвольностью и четвертое — отрицанием самого вопроса. Ни одному из них не удается решить основной проблемы: как из бескачественного и бесконечного Неопределенного рождается качественно–бесконечный мир? И неужели ни у кого из доксографов не сохранилось никакого материала по этому вопросу, если для Анаксимандра это было первейшей и важнейшей проблемой?
Дело обстоит совершенно иначе, чем это думает большинство ученых–историков. В понятии апейрона нет ничего научного, а потому нечего и стараться сделать научно–понятным происхождение из него конкретных вещей. Путь от Фалеса к Анаксимандру, от ΰδωρ к άπειρον[195], есть путь истории диалектики от чувственных характеристик ее заданий и натуралистических ее исполнений — к неразборчивой смеси чувственно–натуралистического и подлинно–конкретно–спекулятивного. Еще далеко до того времени, когда диалектический метод будет осознан во всей спекулятивной чистоте. Но тем не менее и у Анаксимандра — прогресс. Для Фалеса это все еще только мифически–чувственный путь. Для Анаксимандра же здесь уже начало некоторой неясности: он еще сам хорошо не знает, о каком бытии он хочет говорить; и в своем новом, весьма плодотворном термине захватывает два разных понятия бытия, одно — как полноту качеств и процессов конкретного мира (онтологическое понятие), другое — как исходный пункт диалектической спекуляции (диалектическое понятие). На самом деле есть единое, единственное Бытие, окружающий нас мистически–символически–мифический мир, и нет никакого иного Бытия или иного мира. Но методы их рассмотрения — разные. Один рассматривает части мировой картины и связывает их в целое. Другой не хочет знать никаких частей, рассматривает мир в его сущности, вне каких бы то ни было частей или конкретно–чувственных определений. Вот эти два метода и кроются в Анаксиманд–ровом понятии Беспредельного.
В самом деле, не кроется ли двоякое понятие бытия в словах [196]: «Он признал началом сущего некую природу Беспредельного, из которой возникают небеса и находящиеся в них миры»? Или далее (там же): «Эта природа вечна и неизменна и объемлет все миры. Время же, по его учению, относится к области ограниченного рождения, существования и уничтожения». Сюда же Цицерон: «Ибо он сказал, что есть бесконечная природа, из которой все рождается» [197], или еще короче у Аэция: «Беспредельное есть начало сущего».[198]
Во всех этих фрагментах и во многих других чувствуется несомненная двойственность, вытекающая из того, что пред нами здесь не чистый натурализм, но такой, который пытается исходить из эйдетических установок. Разумеется, нельзя ни в коем случае игнорировать мифически–натуралистических моментов. И у Анаксимандра они, быть может, сильнее, чем у Фалеса. У него, собственно говоря, почти уже весь арсенал натуралистической онтологии.
7. «Судьба». Прежде всего, необходимо отметить первый момент всякого натурализма — непреложность и всеобщность законов. «Он учил, что части изменяются, целое же остается неизменным» [199]; сюда же необходимо отнести и знаменитый фрагмент о грехе индивидуальности: «А из чего возникают все вещи, в то же самое они и разрешаются согласно необходимости. Ибо они за свою нечестивость несут наказание и получают возмездие друг от друга в. установленное время»[200] ; «в Беспредельном заключается всяческая причина всеобщего возникновения и уничтожения»[201]; «эта природа вечна и неизменна (нестареющая) и объемлет все миры»[202]; в противоположность Фалесу Анаксимандр говорит: «Вечное движение есть более древнее начало, чем влага, и благодаря ему одни вещи рождаются, другие уничтожаются» [203] Без учения о постоянстве нет натуралистических законов, и οΉο у Анаксимандра дано с достаточной ясностью, хотя зачатки его можно найти, конечно, и у Фалеса. «Судьба» язычников и есть то, что по выключении мистических и мифологических моментов превращается в новоевропейское учение о причинности. Причинность новейшего математического естествознания есть не более как плохое язычество: это — обворованное, раздетое догола и пущенное по миру учение о судьбе. Так же не знает новоевропейский ученый о мире ничего особенного, как не знал и древний грек. Мы знаем законы движения или притяжения, мы можем многое наперед вычислить. Но разве этим уничтожается случайность? Ну, а почему картина солнечной системы будет в данное время именно такой, а не иной? Ведь наши законы совершенно не изменились бы, если бы картина в данный момент была другая. Законы ничего не говорят о конкретных событиях и конкретных моментах. Столкнется наша Земля с каким–нибудь другим небесным телом или не столкнется, погибнет ли наша планета или не погибнет, — законы будут действовать совершенно одинаково. Так разве это не царство случайности и слепой судьбы? Просто наука более нахальна, а язычество более благородно. В этом и разгадка новоевропейского учения о причинности в мире. Древние видят случайность и квалифицируют ее как случайность. Новые же ученые, видя случайность, обманывают себя и других и навязывают какую–то «гармонию» вселенной, на которую ни они — поклонники «случая», — ни вся их наука не имеют никакого права. Так бы и надо было продолжать говорить о судьбе, а не о «постоянстве законов природы» и непонятно откуда возникающей «вечной гармонии». Итак, учение древних, и прежде всего Анаксимандра, о «судьбе», «справедливости» и «необходимости», ведущих к возникновению вещей и к их гибели, — есть типичное учение о причинности, одинаковое во всех видах натурализма.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Очерки античного символизма и мифологии"
Книги похожие на "Очерки античного символизма и мифологии" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Алексей Лосев - Очерки античного символизма и мифологии"
Отзывы читателей о книге "Очерки античного символизма и мифологии", комментарии и мнения людей о произведении.