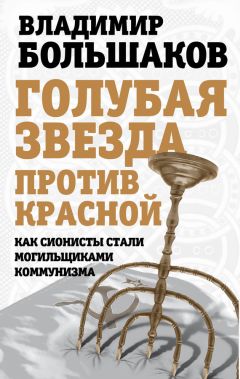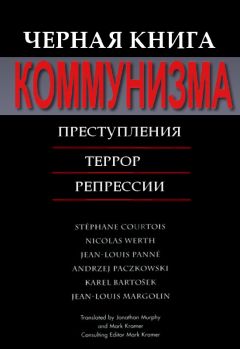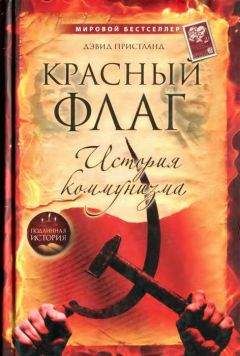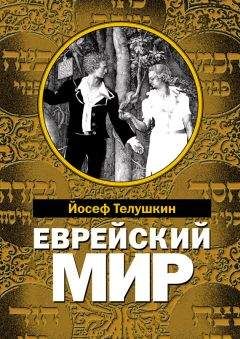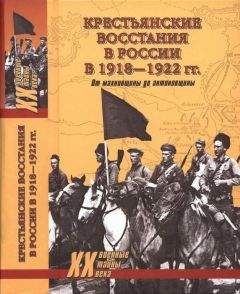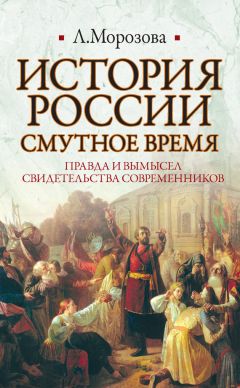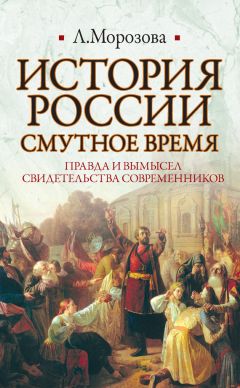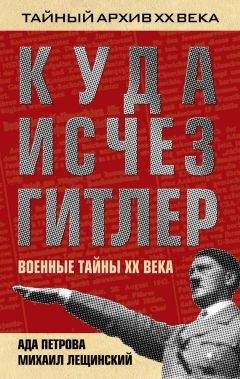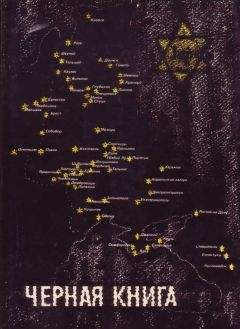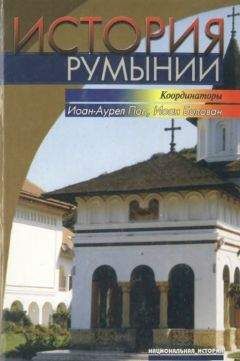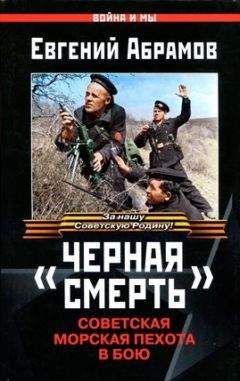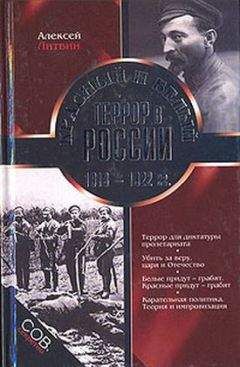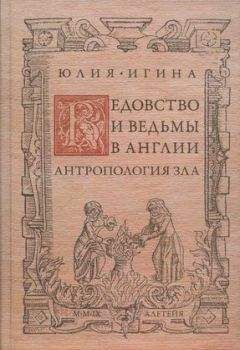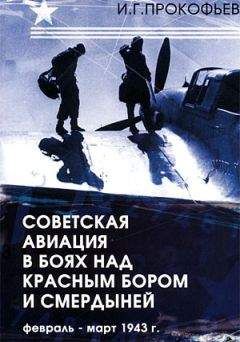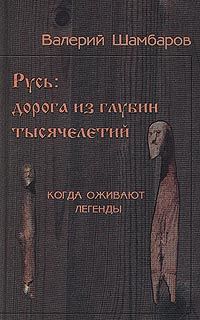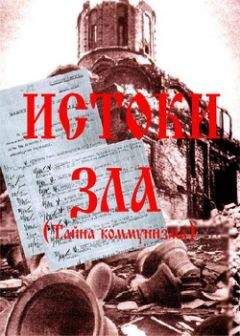Стефан Куртуа - Черная книга коммунизма
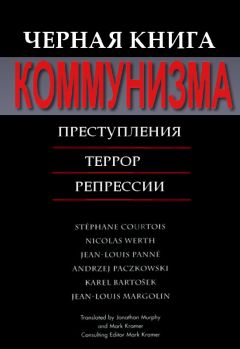
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Черная книга коммунизма"
Описание и краткое содержание "Черная книга коммунизма" читать бесплатно онлайн.
«Черная книга коммунизма» — первое фундаментальное справочное издание, посвященное исследованию преступлений коммунистических режимов, существовавших в ХХ веке. Международный коллектив ученых-историков провел огромную работу, собрав воедино всю информацию о преступлениях, совершенных под флагом коммунизма во многих странах и на разных континентах. При этом использовались не только многочисленные свидетельства и воспоминания очевидцев, но также материалы из недоступных ранее архивов.
Книга, предлагаемая вниманию читателя, уже издана во многих европейских странах. Она серьезна, масштабна, туго набита фактами, многие из них уникальны своей новизной, подчас невероятностью. Это своего рода исследование о раковой опухоли большевизма, которая беспощадно уничтожала поколение за поколением во всем мире и, прежде всего, в России.
Книгу создали зарубежные историки. Жаль, что не российские. Но замечательно, что исследование выходит в русском издании.
Что же это за явление — большевизм, основанный В. Ульяновым в 1903 году?
Ленин в начале века патетически воскликнул: «Дайте нам партию революционеров, и мы перевернем Россию!»
Перевернули. Поставили с ног на голову. Что получили? Ничего, зато потеряли целое столетие. На то же столетие отстали от цивилизованных стран. Убиты десятки миллионов людей. Страна — нищая, отсталая, нация биологически вырождается. И перспективы выздоровления страны и нации отнюдь не радужны. Почему? Потому, что наше общество пусть еще не смертельно, но все еще запредельно отравлено ложью. Мы все еще продолжаем жить в каком-то кошмарном сне. Боремся за свободу, а живем по-советски.
Самое ужасное, что существует на белом свете, — это извращение прекрасного. большевистский режим родился из революционной решительности, на словах вдохновляемой гуманистическими идеалами. Ленинцы были убеждены, что только насилие является универсальным и единственным средством осуществления этих идеалов.
Большевизм и фашизм — две стороны одной и той же медали. Медали вселенского зла.
При виде оскорбительного слова «преступник» меня захлестнула ярость, и я решила: не подпишусь! Однако после минутного размышления я нашла — как мне казалось — способ повернуть ситуацию в свою пользу и нанести удар маоистам.
Я нарисовала еще одну рамку под цитатой Мао и вписала туда те же слова: «Всегда помни!». Ниже я вписала другое назидание Мао Цзэдунэ, позаимствованное не из Красного цитатника, а из статьи О способе разрешения противоречий среди народа. Цитата гласила: «Везде, где появляется контрреволюция, мы должны безжалостно ее подавить, но если мы допустили ошибку, то обязаны непременно ее исправить».
Я передала бумагу надзирательнице, и в тот же день меня вызвали на допрос.
В комнате сидели те же люди, знакомые мне по прежним допросам, кроме одного военного. Угрюмые лица… Я не ожидала другого, была готова ко всему еще тогда, утром, когда решилась восстать против их права считать меня преступницей, хотя я не совершила никакого преступления. Не дожидаясь особого приглашения, я сразу же поклонилась портрету Мао и прочитала вслух цитату, на которую указал следователь: «В борьбе с собаками-империалистами, а также с теми, кто защищает интересы землевладельцев и реакционной клики Гоминьдана, мы должны направить на их подавление всю силу нашей диктатуры. Им дано единственное право — слушаться и подчиняться. У них нет права говорить и действовать, когда их не просят об этом».
Следователь тем временем уже разглядывал лист бумаги, который утром передала ему надзирательница. Я села на стул. Вдруг следователь ударил кулаком по столу и закричал:
«Что это ты тут написала? Думаешь, мы будем шутить с тобой?»
«Ваше поведение несерьезно», — поддержал следователя пожилой рабочий из комиссии.
«Если не пересмотрите свое отношение к делу, — врезал мне молодой рабочий, перещеголяв того, пожилого, — вы никогда не выйдете из этого места».
Не успела я и рта раскрыть, как следователь швырнул на пол мою бумажку, разметал по столу другие листки из моего досье и поднялся с места:
«Возвращайся в камеру и перепиши все, как положено!»
Ко мне подошел охранник и увел меня.
Главная задача следствия — получить признание (после чего вина уже автоматически «доказана») и собрать доносы от «свидетелей», подтверждающие «искренность» сделанного признания и расторопность полицейского сыска маоизма, у которого было неписаное правило — арестовывать подозреваемого после трех поступивших на него доносов. А дальше все шло по накатанному пути… За редким исключением, следователь знал, как «расколоть» арестованного. Для этого существовал целый ряд профессиональных приемов: показать допрашиваемому, что в его ответах есть противоречия; сделать вид, что следствию давно все известно, и дело только в признании арестованным своего преступления; сравнить признания подследственного с другими признаниями или доносами — здесь следствие прибегало к силе или к услугам многочисленных добровольных осведомителей (благо в городах на каждом углу были предусмотрены специальные ящики для подметных писем); невозможно было скрыть от дознания любой, даже давно забытый факт биографии подследственного. Когда Ж. Паскуалини получил возможность прочитать все доносы из своего тюремного досье, он был поражен их количеством: «Это стало для меня настоящим потрясением. Сотни страниц писем, даже анкеты с разоблачениями.
И подписи коллег, друзей, а то и случайных знакомых, с которыми я виделся, может быть, пару раз (…). Сколько их было, предавших меня? Тех, кому я доверился, не подозревая ничего плохого!» Нень Чэн, освобожденная из заключения в 1973 году, так ни в чем и не признавшись (исключительный случай, явившийся результатом ее выдержки и мужества, а также — отчасти — следствием некоторых ударов по судебно-полицейской системе страны в годы «культурной революции»), многие годы прожила в кругу родных, друзей, учеников, каждый из которых прежде давал против нее показания в той или иной форме в органах госбезопасности, причем сами эти люди иногда этого не скрывали: они считали, что у них не было выбора.
Когда следствие подходило к концу, начиналась подготовка к выходу в свет «романа из жизни преступника», бывшего «коллективным творчеством» двух соавторов — судьи и подсудимого, виртуозной интерпретацией «неопровержимых улик». «Преступление» должно быть достоверным и жизненным, поэтому обвинителям необходимо было позаботиться о правдоподобии следственных фактов. Для этого использовался эффектный прием — привлечение «соучастников». Дело основательно перетасовывалось, и обвинение приобретало уже другой характер: упор делался на оппозиционные настроения и политический радикализм. Всплывало некое письмо к другу-иностранцу о том, что в годы «большого скачка» в Шанхае были снижены нормы выдачи зерна населению, и это становилось основанием для обвинения в шпионаже, хотя «крамольные» цифры публиковались во всех газетах и были известны всей зарубежной общине города.
Отречься от самого себя
Заключенный быстро терял веру в себя. За многие годы полиция Мао усовершенствовала методы дознания и достигла такого мастерства, что никто не мог ее перехитрить — ни китаец, ни иностранец. Нужно было не столько заставить человека признаться в несовершенных преступлениях, сколько внушить ему, что вся его жизнь была мерзкой и преступной, что наказание закономерно, иначе быть не может, потому что мы, полиция, говорим вам: так жить нельзя, нужны другие идеалы. Основа успеха этих методов заключалась в отчаянии арестованного, сознававшего, что он полностью, навсегда и без всякой надежды находится во власти своих тюремщиков. И заключенные были беззащитны перед ними. Раз арестован, значит, виноват. (Уже отсидев в тюрьме много лет, я познакомился с невиновным заключенным. Он действительно сел в тюрьму по ошибке: инкриминированное ему преступление совершил другой, его однофамилец. Через несколько месяцев он признался во всех преступлениях того, настоящего преступника, и когда правда вышла наружу, тюремное начальство выбилось из сил, убеждая его выйти на свободу и вернуться к семье. «Нет, — твердил тот, — я слишком виноват перед вами».) У заключенного не было шансов выйти на открытый судебный процесс, ему давали от силы полчаса на все слушание, и это было обкатанной процедурой. Права на адвоката и на апелляцию, как это принято в европейском судопроизводстве, у него тоже не было.
После оглашения приговора заключенного этапировали в исправительно-трудовой лагерь (на государственное сельскохозяйственное предприятие, шахту, завод и т. п.). И хотя там продолжались изнуряющие «воспитательные» занятия, а иногда — для встряски — заключенный проходил «испытание на прочность», то есть подвергался побоям сокамерников, главным в жизни лагерника с этого момента становился труд. Заключенному приходилось выдерживать двенадцать часов изнурительной рабочей смены с двумя короткими перерывами на обед и ужин, при этом еда была более чем скудной, как и в следственной тюрьме. Наипервейший ингредиент лагерной диеты — морковь, «движущая сила перевыполнения производственных норм», более высоких для «трудоустроенного преступника», чем для «вольных» рабочих. Учитывался и вклад каждого отдельного арестанта в совокупную результативность труда камеры или барака, проводились кампании ударного труда и коллективные соревнования (в конце 50-х годов они получили название «запуск спутника»), во время которых заключенные работали по 16–18 часов без перерыва, превращаясь в бессловесных животных во славу приютившего их исправительно-трудового учреждения. Выходные дни здесь выпадали только на большие праздники и проводились за слушанием бесконечных проповедей на политическую злобу дня. Одежда заключенного едва прикрывала тело, иногда он не один год донашивал одежду, в которой его арестовали. Зимняя спецодежда полагалась только в лагерях Северной Маньчжурии (этой китайской Сибири), раз в год согласно тюремной инструкции лагерник получал один комплект нижнего белья.
Месячная продуктовая норма заключенного составляла 12–15 кг зерна, а «лодырям» ее снижали и до 9 кг: это меньше того, что выдавали французским каторжникам во времена Реставрации, столько же получали заключенные в советских лагерях и примерно столько же — заключенные вьетнамских лагерей в 1975–1977 годах. Почти полностью отсутствовали в рационе мясная пища, сахар, растительное масло, заключенные получали минимум овощей и фруктов, вследствие чего возникал опасный для здоровья дефицит витаминов и протеинов. Бывали случаи воровства продуктов, за что провинившихся очень строго наказывали. На предприятиях сельскохозяйственного профиля заключенные имели возможность «подкормиться»: они либо ловили мелких грызунов, например крыс, которых ели в сушеном виде, либо собирали съедобные растения. Медицинской помощи почти не было, ее оказывали только заразным больным, а ослабленных, безнадежных больных и стариков переводили в настоящие «лагеря смерти», где половинные рационы быстро довершали дело. Единственное относительно светлое воспоминание в жизни заключенного оставляло его пребывание в следственной тюрьме, где и дисциплина была мягче, и заключенные другие — незапуганные, не боявшиеся нарушать правила при любом удобном случае. Там существовал особый язык и жесты, понятные только «своим», то есть можно было рассчитывать на некоторую солидарность.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Черная книга коммунизма"
Книги похожие на "Черная книга коммунизма" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Стефан Куртуа - Черная книга коммунизма"
Отзывы читателей о книге "Черная книга коммунизма", комментарии и мнения людей о произведении.