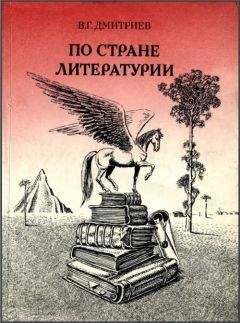Валентин Коровин - История русской литературы XIX века. Часть 2: 1840-1860 годы

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "История русской литературы XIX века. Часть 2: 1840-1860 годы"
Описание и краткое содержание "История русской литературы XIX века. Часть 2: 1840-1860 годы" читать бесплатно онлайн.
В части 2 учебника прослежены особенности литературного творчества русских писателей середины 19 века, мастеров реалистического искусства слова.
Учебник предназначен студентам филологических факультетов, преподавателям вузов и школ.
И хотя речь в стихотворении идет о лирическом «я», оно, несомненно, имеет в виду все поколение, которому Лермонтов предъявляет те же упреки, что и в стихотворении «Дума».
«Дума» (1838)
В отличие от элегии «И скушно и грустно», в «Думе» развернут анализ нынешнего состояния души и духа поколения. Поэт сосредоточен на непосредственном размышлении, процесс которого происходит словно сейчас, когда пишется стихотворение. Синхронность переживания и его выражения – характерный признак лирического монолога. Другое отличие заключено в том, что настоящее бытие поколения связано не с прошлым, а с грядущим. Здесь есть сходство с лирикой декабристов, которые постоянно апеллировали к суду потомства и «судили» своих современников с точки зрения будущих поколений.
Как и элегия «И скушно и грустно», «Дума» начинается с элегической ноты, но вскоре в нее проникают насмешка, ирония и инвектива. Здесь сочетаются элегическая лексика («печально», «иль пусто, иль темно», «познанья и сомненья», «жизнь уж нас томит», «надежды лучшие», «чаша наслажденья», «лучший сок», «мечты поэзии», «создания искусства», «восторгом сладостным») с высокой, свойственной ранее жанру оды и ораторской, декламационной лирике; с типичными архаизмами и славянизмами; развернутыми поэтическими уподоблениями, резкими антитезами, повторами, афоризмами.
Начавшись как философско-социальная и даже политическая элегия, «Дума» перерастает ее рамки и сливается с ораторским лирическим монологом, с жанром декламационной лирики. В результате эти жанры теряют свои канонические признаки, и в целом образуется гибридная форма – философский монолог, в котором на равных правах смешаны медитативная элегия и гражданская ода. Однако и это не все.
Обвинения поколению высказаны иронически, притом в намеренно оскорбительном, сниженном, прозаическом тоне; вся лексика взята из бытового обихода. Тем самым гражданская «болезнь» поколения – это не возвышенный романтический недуг, зависящий от обстоятельств и от судьбы, а слабости обыкновенных людей, преодолеть которые у них нет ни способностей, ни сил, ни воли. Лермонтов, конечно, прекрасно понимал, что это далеко не так, но он сознательно снял вину с обстоятельств и преувеличил вину поколения, чтобы больнее задеть его за живое и хотя бы таким путем возродить в нем здоровые, жизнелюбивые и жизнедеятельные начала. С этой целью строфические отрезки заключаются самыми обидными словами. Общий путь поколения рисуется как идейное банкротство, как духовная и душевная несостоятельность: поколение одиноко и потеряно во времени – ему скучна жизнь предков, со стороны потомков его ждет оскорбление «презрительным стихом». Жизнь поколения неестественна, она противоречит нормальному ходу вещей: поколение ничего не оставляет своим наследникам и «спешит» «к гробу», к смерти, насмешливо оглядываясь на бесцельно прожитую жизнь и осмеивая себя.
Позиция Лермонтова в «Думе» выглядит двойственной: лирическое «я» не отделено и одновременно отделено от поколения. Лермонтову близки страдания поколения и его вина, и поэтому он стремится объективировать лирическое переживание, мысля себя одним из «толпы». Ему свойственны те же нравственные недуги, которые присущи всему поколению. Но в отличие от поколения, которое не осознало духовной «болезни» или примирилось с ней, поэт не только осознает «болезнь», но и не может с ней смириться. Это возвышает поэта над поколением и дает моральное право сурово осудить его. Таким образом, критика идет изнутри поколения от принадлежащего к нему лица, поднявшегося выше духовного уровня поколения. В начальных стихах «Думы» – «Печально я гляжу на наше поколенье!» – определены место поэта и дистанция, существующая между ним и поколеньем. Однако поэт не может признать судьбу поколения «нормальной», и это мучительное и неотступное чувство досады и обиды выливается в стихи, адресуемые всем, становится поэтическим высказыванием.
В других стихотворениях, где субъектом высказывания выступает лирическое «я», отношения между обществом и лирическим героем могут принимать иной характер. Нередко лирический герой Лермонтова чувствует на себе давление враждебной действительности и непосредственно откликается на него.
«Как часто, пестрою толпою окружен…» (1840)
Лермонтов прямо сталкивает светлую мечту и праздничный шум новогоднего маскарада. Обычно в романтической лирике душа героя независима от маскарадного мира («Наружно погружась в их блеск и суету…»), хотя тело его пребывает среди шумной толпы. Однако окружающая героя «пестрая толпа», наполненная «образами бездушных людей», не оставляет его в покое («Когда касаются холодных рук моих С небрежной смелостью красавиц городских Давно бестрепетные руки…»).
Вся композиция стихотворения отражает раздвоенность лирического героя, находящегося и в маскарадном чаду, и вне его. Герой, сохраняя самостоятельность, пытается сопротивляться, но не может вырваться из «светской» суеты. Здесь, как и в драме «Маскарад», маскарад – символ реальной действительности, независимо от того, скрывают ли маски подлинные лица, или сами открытые лица есть не что иное, как «приличьем стянутые маски». Смысловой эффект стихотворения заключен в том, что лирическому герою отвратительны маски любого рода, так как за ними он не видит живых человеческих лиц, а встречает лишь «бездушные образы», слышит «затверженные речи», ощущает касание «бестрепетных рук», но выйти из маскарадного мира не может. Надеясь отыскать подлинную жизнь, он уходит в сон, в свою мечту, где исчезает маскарад и нет ни масок, ни скрывающих лица «приличий». По контрасту с веселым, шумным, блестящим маскарадным миром мечта поэта и образы, встающие перед ним, оказываются обращенными в прошлое, внешне невыразительными и бедными: здесь царят запустение, покой, тишина («сад с разрушенной теплицей», «Зеленой сетью трав подернут спящий пруд», «вечерний луч», «желтые листы»). Осенний пейзаж дополняет картину угасания дворянской усадьбы, признаки которой очевидны: «высокий барский дом», аллея, а за прудом – поля, покрытые туманами. Прошлое предстает в элегических красках и тональности. Однако внешняя картина не соответствует внутренней, а противопоставлена ей. Кругом увядание, «старость», а лирический герой – ребенок, и его мечта напоминает «первое сиянье» «молодого дня». «Старинная мечта» по-прежнему юна, а звуки, связанные с ней, – «святые». Засыпающей природе контрастны чистота помыслов и чувств, радостное погружение во внутреннюю жизнь и ее созерцание.
Лирический герой возвращается к естественному, словно бы нетронутому цивилизацией, простому сознанию. Воспоминание о патриархально-поместном быте окрашивается в идиллические тона. Печальный элегический тон светлеет, и элегия смешивается с идиллией.
Противоречие между мечтой и реальностью образует трагическую коллизию в душе поэта. Драматический слом настроения происходит в тот момент, когда герой находится на вершине, в апогее воспоминания, когда он овладел мечтой («царства дивного всесильный господин»). Мотивировка слома идет с двух сторон: изнутри и извне. Во-первых, герой не может удержать мечту, потому что живет в реальности. Мечта приходит к нему на краткий миг («сквозь сон», в забытье), и он лишь на мгновение погружается в мир мечты. Во-вторых, реальность грубо вторгается во внутренний мир героя («шум толпы людской спугнет мечту мою»). Идиллическая картина при возвращении из мечты в реальность разрушается, исчезает, и мечта превращается в «обман». Поэт, однако, не хочет расстаться ни с красотой, ни с мощью искусства, а красота и сила искусства не всегда выступают сопряженными в его лирике. Трагическая раздвоенность (уход от реальности в мечту, выраженный в красоте и гармоничности элегии, и пребывание во враждебной реальности, выраженной в «уродливости» и дисгармоничности сатиры), не ведет к «новой боевой позиции»[68]. Лермонтов явно стремится проложить вовсе не «боевой», а по сути своей компромиссный путь в искусстве «совмещения и слияния гармонии и дисгармонии, прекрасного и безобразного, элегического и сатирического, «поэтического» и «прозаического». Такова ведущая направленность зрелой лирики, не исключающая, разумеется, вспышки гармонического или дисгармонического романтизма и соответствующего ему стиля. Иначе говоря, Лермонтов не хочет оставить гармоничную поэзию красоты ради силы, а дисгармоничную поэзию силы ради красоты.
«Валерик» (1840)
В сказанном легко убедиться, рассмотрев это стихотворение. По форме своей «Валерик» – любовное послание, включающее и охватывающее, однако, стихотворную повесть или стихотворный рассказ. Первая и последняя части выдержаны в духе типичного любовного послания, в котором патетика и серьезность искреннего признания несколько снижены условностью жанра и ироничностью тона.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "История русской литературы XIX века. Часть 2: 1840-1860 годы"
Книги похожие на "История русской литературы XIX века. Часть 2: 1840-1860 годы" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Валентин Коровин - История русской литературы XIX века. Часть 2: 1840-1860 годы"
Отзывы читателей о книге "История русской литературы XIX века. Часть 2: 1840-1860 годы", комментарии и мнения людей о произведении.