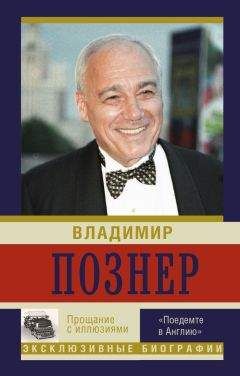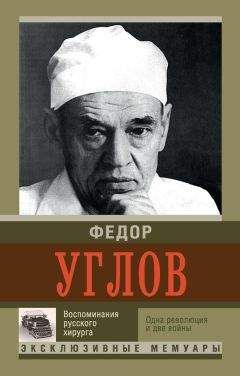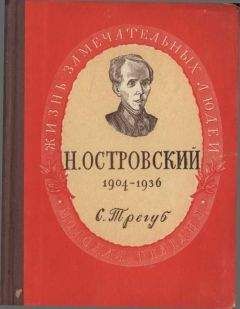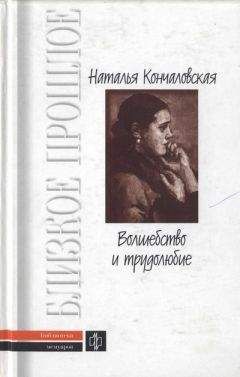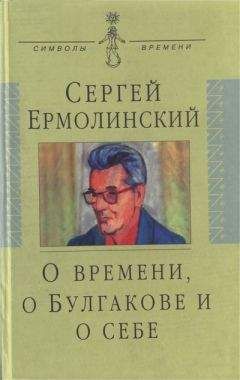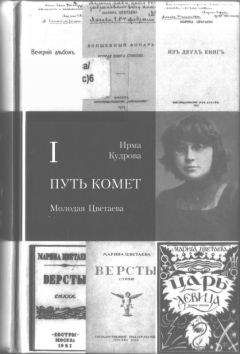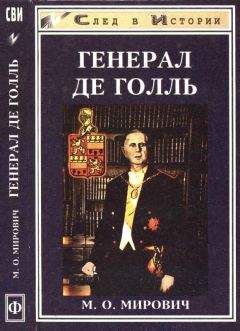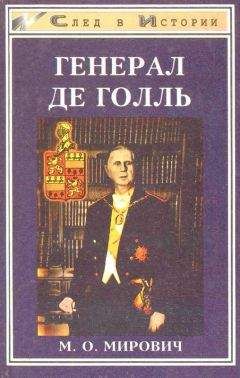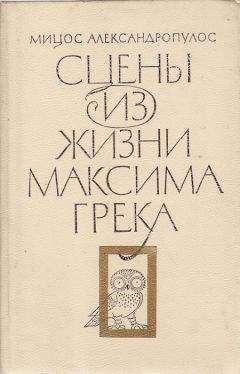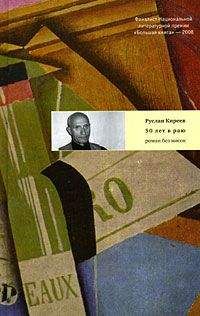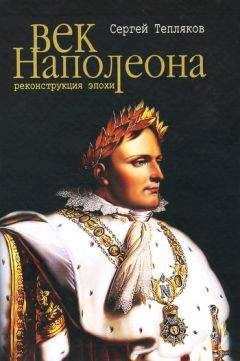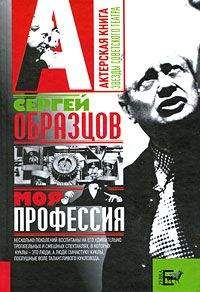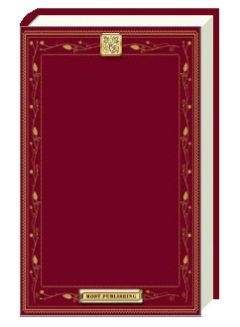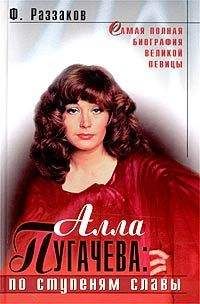Сергей Снегов - Книга бытия

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Книга бытия"
Описание и краткое содержание "Книга бытия" читать бесплатно онлайн.
Двухтомный роман-воспоминание Сергея Снегова «Книга бытия», в котором автор не только воссоздаёт основные события своей жизни (вплоть до ареста в 1936 году), но и размышляет об эпохе, обобщая примечательные факты как своей жизни, так и жизни людей, которых он знал.
И еще одна — и, возможно, главная Петина странность: он не увлекался женщинами. За полных десять лет нашего знакомства я не видел рядом с ним ни одной девушки (литературные компании не в счет). И среди его стихов не просто не было любовных — я не помню ни одного, где вообще говорилось бы о женщинах. Зато у него было много друзей-мужчин — тех, чьей поэзией он восхищался, тех, кого восхищало Петино творчество.
Он приходил ко мне домой (обычно — днем, он знал, когда я свободен от лекций), усаживался в кресло и читал свои, а чаще — чужие стихи. Иногда чтение превращалось в лекцию (и далеко не всегда — о современниках). Однажды он часа два восхищался португальцем Камоэнсом, поэтом XVII века. Речь шла о «Луизиаде», рассказывающей о странствиях Васко да Гамы, — и Петя не мог не поделиться со мной своим восторгом. Я остался равнодушным и к Камоэнсу, и к Ваське не Гаме, как я его тогда называл, — и Кроль гневно обрушился на меня. Есть люди, остро воспринимающие недостатки, — таких большинство, я тоже из них. А есть те, которые еще острей реагируют на малейший проблеск красоты, — и Петя был самым ярким представителем этого типа.
Меня в те времена увлекала философия, и в ответ на Петины излияния я рассказывал ему о своих изысканиях и о тех мыслителях, которые меня захватывали. Он слушал внимательно, но недолго: ничто, кроме поэзии, не могло занять его на продолжительное время. Своих стихов я ему не читал.
Иногда его одолевала блажь — прямо посреди поэтических бдений. Как-то, прочитав очередное стихотворение, он помолчал и вдруг деловито спросил:
— Сережа, что ты сделаешь, если я вдруг нападу на тебя и побью?
— А зачем тебе на меня нападать? — полюбопытствовал я.
— Ну, просто так. Нападу и буду бить.
— Ну, если просто, тогда ничего. Я думал — по важной причине.
— Ты не ответил на мой вопрос.
— А чего отвечать? Напасть — это сумеешь. Но побить — вряд ли. Я сам повалю тебя на пол и так измантужу, что без помощи не поднимешься.
Он опасливо покосился на меня. Мы были одного роста, но я много сильней — и он это знал. Дурные мысли продолжали терзать его.
— Ну, хорошо, я не буду тебя бить. А что ты сделаешь, если я вскочу и кулаком высажу стекло в окне?
— Не советую — порежешься. Такие раны не скоро заживают. Не сможешь писать стихи.
— Ладно, кулаком не буду. А если возьму вон ту гипсовую статуэтку и выбью окно ей?
Я стал сердиться.
— Тогда я схвачу тебя за шиворот и вышвырну за дверь. И так наддам ногой нижнее ускорение, что ты, как та свинья у О. Генри, полетишь в десяти метрах впереди своего визга. Начнем, что ли?
Он помолчал и стал читать Михаила Кузмина. Тут он был сильней меня.
В Москве Петя жил той же жизнью — только хуже. Бесквартирный, ночевал по знакомым, ютился в случайных углах, ел от случая к случаю. Естественно, нигде не работал. И не мог бы работать, кстати, даже если бы захотел — прописки у него не было. Друзья устроили ему заказ от Госиздата — издание предполагалось публицистическое, на военную тему (в годы первых пятилеток она была модной). Мы случайно столкнулись с Петей в Москве, и он гордо показал мне этот первый и последний в своей жизни договор — на брошюру под хлестким названием «Пушки и параграфы». Возможно, он даже и аванс получил, но книги так и не написал — упомянутые пушки (вместе с параграфами) в поэтические строфы не впихивались. Вероятно, одна мысль о них порождала у него неукротимую зевоту. Лучше было голодать, чем питаться едой, нашпигованной военными причиндалами.
Во второй половине тридцатых, когда я уже гнил в тюрьме, арестовали и его. Он повалялся на тюремных нарах, поуродовался на лесоповале. И каждую свободную минуту занимался единственным делом своей жизни — стихами. Во время моего послелагерного (и короткого) столичного житья мне подарили чудом сохранившуюся папку — Петин архив. Последний цикл, написанный в заключении, отыскал великий поклонник его таланта, наш общий друг и впоследствии известный поэт Всеволод Азаров.
Не могу удержаться, чтобы не воспроизвести несколько отрывков из этих великолепных и скорбных стихов.
Того не передать словами,
Как здесь лежат, как здесь храпят,
Как у безногих под главами
Протезы жесткие скрипят.
Как человек умеет чахнуть,
Как человек умеет пахнуть,
Забыть мытье, забыть бритье,
Забыть еду, забыть про сон…
На многое способен он.
* * *
Я сыном посчитаться вправе
Того народа, чьи сыны
Всегда предпочитали яви
Галлюцинации и сны.
Нам свойственно к деньгам презренье,
Мы двойственны, как все творенья.
И бытие — орех двойной.
Меня коснулся мир иной.
И вот я взрослый. Я созрел
Для скверных слов и скверных дел.
* * *
Мы валим древесину в груды
Весь день — и позже, до зари.
Осину — дерево Иуды,
Его боятся упыри —
Сосну, березы, липы, клены
И дуб. И каждый труп зеленый
Пометит дегтем контролер.
* * *
Так без винтовки и стамески
Тянулась молодость моя.
И час настал, и в знак отместки
Я отрешен от бытия.
Я стал унылый и покорный.
Я научился чай цикорный
Глотать из кружек, кочевать,
На жестких нарах ночевать.
Мне просто скучно.
Жизнь есть сон.
Был прав испанец Кальдерон.
* * *
Что ж, слава есть в самом бесславье
И право есть в самом бесправье.
Пусть будет труден этот путь —
Он будет пройден. Как-нибудь…
Он не был пройден. Его насильственно прервали недалеко от той точки, какую Петин любимый Дант назвал серединой жизни. Выйдя на волю еще до войны, Петя уже не вернулся в недобрую Москву. Он умчался к бывшим ларам и пенатам[43] — ему казалось, что они у него еще остались. Но домашние боги ушли от него — даже в Одессе.
Во время короткого своего послелагерного приезда домой я пытался узнать, что с ним. Точно никто не знал, но все разговоры и слухи указывали на лагерь уничтожения для евреев на Дальницкой улице. Петя, выкручиваясь из железных пут судьбы, мог бы избежать этого страшного места. Моя мать была здесь несколько раз — приносила передачи для знакомых, она, несмотря на фамилию, была русской (это говорилось и в паспорте), ее свободно впускали и свободно выпускали: немцы еще больше, чем советские чиновники, чтили официальные документы. Петя мог доказать наличие польской крови, мог предъявить нееврейские бумаги одного из родителей, мог защититься семейным крестиком… Но он был неспособен это сделать. Он честно посчитал себя сыном избранного — на двухтысячелетнее гонение — народа и не властен был отступиться.
Он, тридцатилетний, погиб в конце 1944-го.
Пятьдесят лет прошло с тех грозных дней. Пятьдесят лет, мертвый, он вечно живет в моем сердце. И будет в нем жить, пока оно бьется.
А теперь — о другом друге, тоже рано умершем. Он свалил меня в пропасть, которую открыл для нас обоих. Я судорожным — всего в два десятилетия длиной — прыжком перепрыгнул через нее в относительно безопасное существование, ему такой прыжок не удался.
Я имею в виду Евгения Александровича Бугаевского.
Сыновья адвоката, известного в Одессе меньшевика, Евгений и Владимир (старший) были типичными интеллигенсткими отпрысками. Они даже жили в самом центре города. Не знаю, интересовался ли их отец литературой, но братья дышали ею (особенно Владимир, ставший впоследствие профессионалом, — правда, только переводчиком национальных литератур).
Нас с Евгением подружила любовь к Борису Пастернаку. Я тогда бредил сборником «Сестра моя жизнь», Женя швырял пастернаковские строчки, как бомбы, в лица тех, которые не доросли еще до такой поэзии.
Он и сам писал стихи — это тоже сближало. Одно из стихотворений он посвятил мне — и я частично запомнил посвящение.
Когда вся жизнь в отпуску и на Стрельне,
Зимою и летом, юнцом и в годах,
Тогда и я, как помешанный мельник,
Хочу, как ворон, жить и летать.
Лечу по аллеям пустынного парка,
Слагая стенанья и крики в строфу.
Я ямбами буду глумиться и каркать,
На всех навевая свой страх и тоску.
Забыл все названья, запутал все даты.
Смешал в одно месиво топи и горы.
И средневековый вижу я город,
В котором аптекарем был когда-то.
Стою у аптеки, к двери прислонившись.
Сейчас, сейчас начинается страшное!
Сливаются тени и прячутся в нишах…
Но некогда ждать мне и некого спрашивать.
Так путник в пути, соскочив со стремян,
Присядет и скажет, что понял он счастье,
Что можно ведь жить, ни к чему не стремясь,
И вскочит в седло, чтобы снова умчаться.
И уже на запад плывут каравеллы.
Вдали показалась страна откровения…
Дальше не помню. Главную свою цель Женя видел в том, чтобы нагромоздить побольше яркого и картинного сумбура. Он был похож на живописца, который старается в предметном мире проницательно заглянуть в запредметное.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Книга бытия"
Книги похожие на "Книга бытия" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Сергей Снегов - Книга бытия"
Отзывы читателей о книге "Книга бытия", комментарии и мнения людей о произведении.