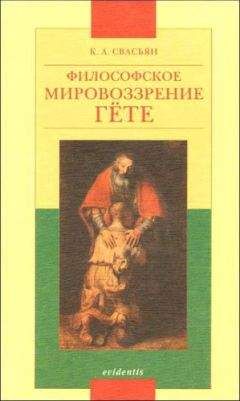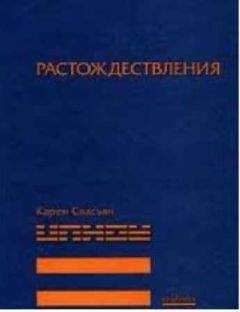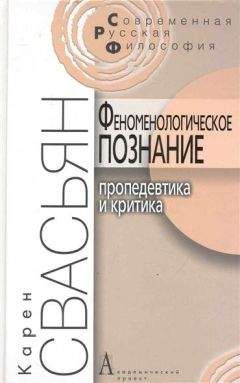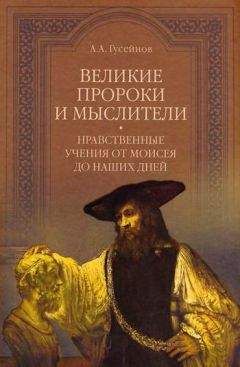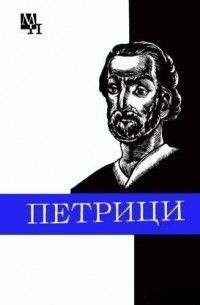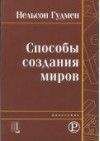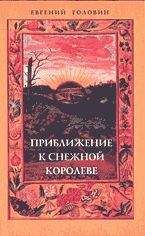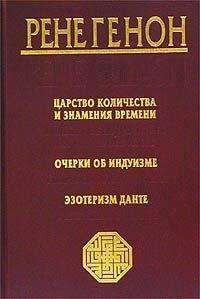Карен Свасьян - Гёте
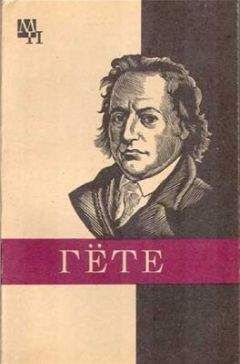
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Гёте"
Описание и краткое содержание "Гёте" читать бесплатно онлайн.
Книга посвящена одному из крупнейших мыслителей второй половины XVIII — начала XIX века. Особое внимание в ней уделяется творческой биографии мыслителя. Философское и естественнонаучное мировоззрение Гёте представлено на фоне духовного развития Европы Нового времени.
Для широкого круга читателей.
Теперь, наконец, мы находимся в самой сердцевине проблемы. Если чувственное созерцание не дает никакого опыта о сущности живого, то таковой следует искать в сверхчувственном созерцании. Кант — мы помним — говорит об интуитивном рассудке, допуская лишь его теоретическую мыслимость и отрицая его действительность как некую «авантюру разума». Мы помним также и контрудар Гёте: ничто не могло помешать ему настаивать на этой «авантюре». Организм может быть понят только в интуитивном понятии, т. е. в таком понятии, которое, не получая чувственно-опытных данных, само творит себе опыт с помощью «созерцающей способности суждения», причем опыт, обладающий ничуть не меньшей достоверностью, чем чувственные восприятия.
Здесь самое место рассмотреть вопрос со всей определенностью и развеять массу кривотолков, связанных со злополучной темой «интуиции». Рационалистическая традиция, судящая об интуиции лишь понаслышке, на манер этаких строго дискурсивных сплетен, основательно постаралась в научной профанации этого понятия, выдавая его за нечто художественно-наитийно-иррационально-смутное и попросту мистическое. Разумеется, в истории мысли есть и такие прецеденты. Но ведь небезгрешна в этом смысле и сама дискурсия, где, к примеру (выбирая таковой из избытка возможных), можно было утверждать и даже научно обосновывать, что когда человек жертвует собою во имя родины, веры или чести, то в основе этого лежат простые «химические реакции» (утверждение принадлежит крупному физиологу и биологу-экспериментатору прошлого века Жаку Лёбу. См. 25, 287–288). И если мы не дискредитируем дискурсию на основании подобных прецедентов, то отчего так сильно достается интуиции, когда она химическим реакциям предпочитает, скажем, алхимические? Следует подчеркнуть это со всей силой: интуиция, созерцательная мысль у Гёте не только не имеет ничего общего с иррационализмом или мистикой, но и является их активнейшей противоположностью.
Вот типичный (и простейший) пример интуиции в духе гётеанизма. Предположим, мы смотрим на растение. Физическое зрение фиксирует ряд ставших форм. Но мы знаем уже, что ни одна из этих внешне зримых форм не есть причина растения, и еще мы знаем, что формы эти не механически соположены, а органически сращены, т. е., глядя на них, мы вынуждены мыслить себе некий единый формообразующий принцип, без которого все они были бы невозможны. Стало быть, для объяснения растительного организма мы должны выйти за пределы сугубо чувственных восприятий, не дающих нам никакого опыта об указанном принципе. Он закрыт нашему чувственному созерцанию, и тем не менее, не видя его физически, мы знаем, что он есть. У нас, следовательно, есть понятие о нем и недостает лишь опыта. Если мы встанем на кантианскую точку зрения, нам придется сделать из всего этого поспешный вывод о невозможности опыта и спасать понятие от пустой химеричности перенесением его в эвристически-фикциональную зону мышления. Но мы не будем спешить и предпочтем без Канта убедиться в том, действительно ли невозможен опыт. Как в этом убедиться? Через опыт. Если чувственное созерцание не дает нам опыта, может, следует поискать его иначе. Возьмем семя какого-нибудь растения и попытаемся сосредоточиться на нем. Прежде всего отдадим себе отчет в том, что мы видим глазами. Мы видим крохотное семя, его форму и цвет. Но в то же время мы знаем, что суть видимого этим не исчерпывается, что в семени таится нечто гораздо более существенное, чем внешняя форма и цвет, но именно оно-то и остается незримым. Тогда мы прибегаем к помощи фантазии. Если посадить это семя в землю, говорим мы себе, из него вырастет растение. Значит, в семени незримо присутствует то, что в будущем разовьется как растение и что теперь недоступно нашим чувственным восприятиям. Мы, таким образом, создаем в фантазии растение, которое позднее станет действительностью в природе. Незримое станет зримым. Но прежде чем стать зримым, оно уже существует реально как творческая сила в семени. И мы ее мыслим, но мыслим не дискурсивно, ибо для дискурсивного понятия нам недостает опыта чувств. С другой стороны, только близорукость педанта сочла бы эту мысль химеричной на том лишь основании, что она не опирается на чувственные восприятия. Сила, заключенная в семени, — объективная реальность, обладающая сверхчувственным характером, и мы имеем о ней не менее реальный и объективный опыт, чем в случае наблюдения уже самого растения. Этот опыт дала нам фантазия, и, будучи полностью сообразным своему объекту, он должен также называться сверхчувственным. Очевидно, что мысль заимствует свое содержание не извне, а из самой себя. Вовне, в чувственной сфере, собственно говоря, нет ничего, что отвечало бы этому содержанию; мысль сама создает его себе и сама же синтезирует его в суждение. Но такая мысль и есть созерцательная (интуитивная) мысль, или тот высший орган восприятия, который сообразен органическому миру и который открывается в нас, когда нам удается хорошо увидеть специфику этого мира. Гёте называет его точной фантазией.
В отдельности взятые, точность и фантазия характеризуют две различные рубрики духовных способностей человека в строгом соответствии с правилами специализации. Точность мыслится как прерогатива естественных наук, фантазия отдана в распоряжение искусства. Разумеется, практика часто демонстрирует иное; история науки и история искусства имели бы непоправимо убогий вид, если бы их реальная жизнь свершалась по правилам, измышленным методологами и эстетиками. Но правила все же остаются правилами, и в конце концов им удается в популярных масштабах добиться того, чтобы о науке и искусстве судили не по их реальной жизни, а по схеме. Точная фантазия Гёте не умещается ни в одной из таких схем. Она есть гармоничное слияние науки и искусства на равноправных началах — не в том смысле, что художнику, дескать, нужно быть точным или (что и вовсе не то) научно образованным, а ученый-де должен эвристически использовать художество (по модели известного заявления Эйнштейна о том, что Достоевский дает ему больше, чем Гаусс), но принципиально и без обиняков: наука есть искусство, и искусство есть наука, причем взятые уже как одно целое. Гёте обнаруживает это целое не только в «Метаморфозе растений» и «Лекциях по сравнительной анатомии», но и в интимнейших шедеврах лирики.
Высшая познавательная способность была открыта. Открытия посыпались, как из рога. Мы возвращаемся к тому, с чего начали: не отдельных открытий искал Гёте, но развития познания до сообразного природе уровня. «По сути дела, — говорит он, — я изучал природу и искусство всегда лишь эгоистически, именно: чтобы формировать себя» (8, 70). Ни наука, ни искусство не интересовали его сами по себе; дело шло о становлении индивидуальности, и главным открытием была здесь способность воочию увидеть идею, увидеть ее как жизнь и зажить в ней неслыханно по-новому, «обращаясь с невозможным так, словно бы оно было возможно» (7, 5, 457). Все остальное прилагалось само собой: морфология растений и позвоночная теория черепа, «Фауст» и «Орфические первоглаголы».
«Галилеем органики» назвал Гёте Рудольф Штейнер (58, 79). «Он, — говорит Гёте о Галилее, — снова привел естествознание к человеку и… показал, что для гения один случай стоит тысячи» (7, 4, 177). Случай, стоящий тысячи, — случай закона механики; Галилей сотворил механику именно открытием в ней закона. В рамки этого закона потом силились втиснуть и органику, но попытки — мы знаем — оставались тщетными. Гёте повторил деяние Галилея сообразно специфике самой органики. Он открыл, что в отличие от закона, действующего в пределах неорганического мира, в органическом мире действует тип.
Поиск типа — Harmonia Plantarum (гармония растений), как называет его Гёте применительно к растительному миру, — вызревал в нем давно, едва ли не с первых веймарских лет. Знакомство с системой Линнея и спровоцированное ею противодействие усилило стремление преодолеть насильственный разлад. Разлад преодолевался не спекулятивно, a in herbis et lapidibus (средь трав и камней). «Мне постепенно становилось все яснее и яснее, что подобно тому, как растения можно подвести под одно понятие, так и созерцание могло бы быть поднято на еще более высокую ступень» (7, 1, 79–80). Наблюдения и эксперименты (включая и работу с микроскопом) не прекращались; параллельно Гёте занимался анатомией и искал межчелюстную кость у человека, движимый тем же стремлением преодолеть разлад. Путешествие в Италию оказалось кульминацией; в Падуанском ботаническом саду проблема достигает критической точки. «Здесь, среди этого разнообразия, мне живее представляется мысль, что, может быть, все растительные формы можно вывести из одной… На этой точке остановилась моя ботаническая философия, и как я выпутаюсь, я еще не знаю» (9, 30(1), 90). Обратим внимание на самый процесс поиска: чувственная эмпирика идет здесь параллельно со сверхчувственной. Единство многообразия — самый основательный и изначально-личный опыт Гёте; он это знал своим опытом цельной личности. Научный поиск был поиском подтверждения. Точность и фантазия координировали усилия; точность не давала фантазии разойтись в фантастику, фантазия спасала точность от тупого педантизма. Идея сверхчувственного единства организовывала чувственный опыт, чувственный опыт вел к реализации идеи: «Перед лицом стольких новых и обновленных созданий снова осенила меня моя старая причуда: не открою ли я среди этой массы растений перворастение? Ведь должно же оно быть! Откуда иначе знал бы я, что то или иное образование является растением, не будь все они созданы по одному образцу?» (9, 31(1), 147). Вот ярчайшая иллюстрация нового, совершенно отличного от механики опыта. Путь механического опыта ведет от факта к закону; факт качания люстры приводит Галилея к закону маятника. Органический опыт возможен в противодвижении; факт, открытый физическому зрению, сам по себе не приводит ни к чему. Собственно и строго говоря, здесь недопустимо говорить о факте, разумея под последним нечто фиксированное; органический опыт зиждется не на факте, а на метаморфозе: «…смотри, он проходит мимо прежде, чем я это увижу, и изменяется прежде, чем я это замечу». Таким образом, исходить из факта здесь не только не допустимо, но и невозможно за отсутствием самого факта. Оттого чувственный опыт, поднаторевший в механике и предоставленный самому себе, не знает, как отсюда выпутаться. Но опыт должен опираться на данное; данным же органики выступает не факт, а мысль, но не дискурсивная мысль, а интуитивная — тот самый высший орган восприятия, который оказывается единственной путеводной нитью, выводящей опыт из этого лабиринта, грозящего сущим сумасшествием. Гёте, «наименее сумасшедший из людей» (по изумительной характеристике Поля Валери), опирается именно на высший орган: «…духовные глаза, без которых мы, как во всем, так и в особенности при исследовании природы, вынуждены блуждать впотьмах» (7, 1, 262). Духовные глаза, открывающие ему единство, ведут его снова к физическим глазам, не знавшим было, как выпутаться из многообразия, но теперь уже видящим в многообразии не разлад и сумасшествие, а гармонию и идею. «Перворастение становится самым удивительным созданием в мире, из-за которого мне должна завидовать сама природа. С этой моделью и ключом к ней можно до бесконечности изобретать растения, которые должны быть последовательными, именно: даже те из них, которые не существуют, смогли бы все-таки существовать, являясь не чем-то вроде живописных или поэтических теней и призраков, но имея внутреннюю правду и необходимость. Этот же закон можно будет применить ко всему прочему живому» (9, 31(1), 159).
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Гёте"
Книги похожие на "Гёте" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Карен Свасьян - Гёте"
Отзывы читателей о книге "Гёте", комментарии и мнения людей о произведении.