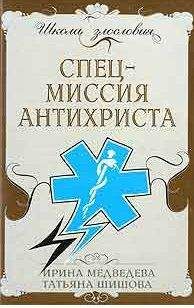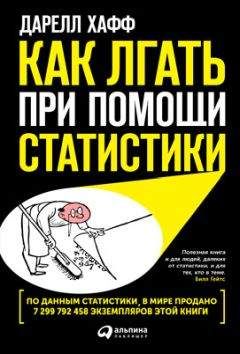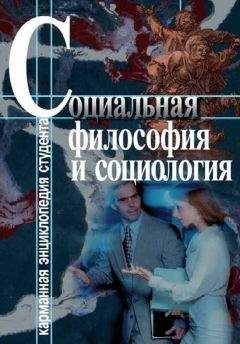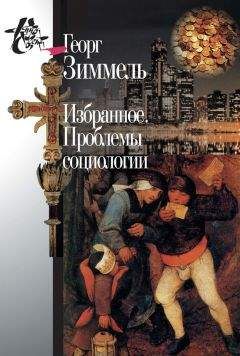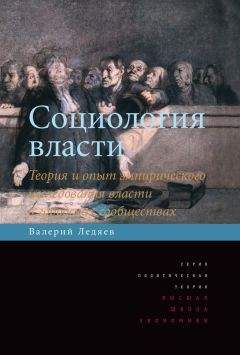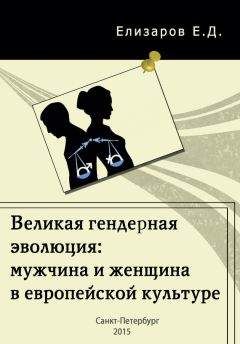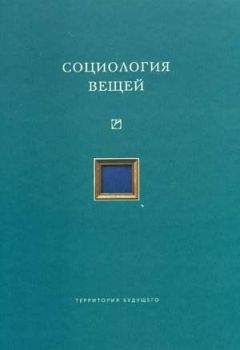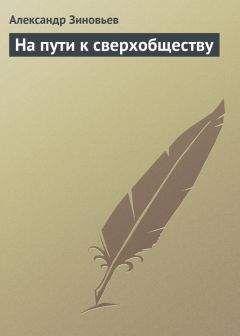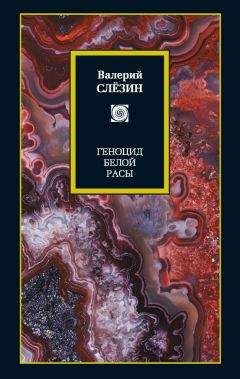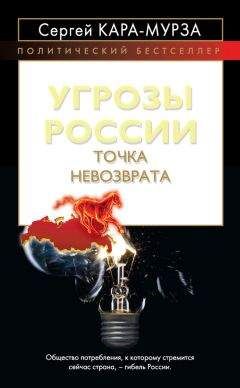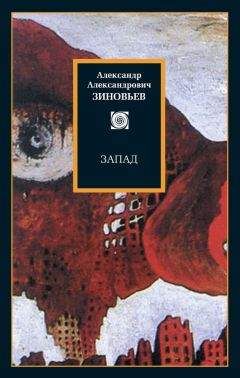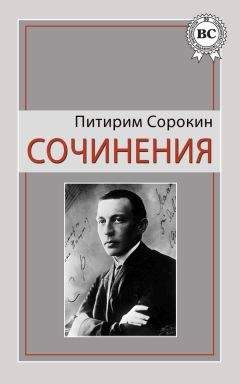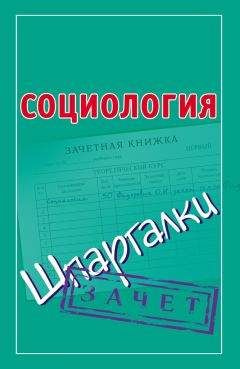Юрий Левада - Ищем человека: Социологические очерки. 2000–2005

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Ищем человека: Социологические очерки. 2000–2005"
Описание и краткое содержание "Ищем человека: Социологические очерки. 2000–2005" читать бесплатно онлайн.
В книге крупнейшего российского социолога Юрия Левады собраны его работы последних лет, посвященные динамике общественного мнения по наиболее острым вопросам экономического, политического, социального и культурного развития страны, меняющимся и устойчивым характеристикам «человека советского», аналитическим возможностям и границам социологического подхода. Статьи основаны на материалах регулярных массовых опросов Левада-центра (в 1988–2003 годах– ВЦИОМ) и в совокупности представляют систематическую картину российского общества постсоветской эпохи.
К этому стоит добавить, что за последние годы именно молодежь (самые молодые, до 25 лет), также и по ее собственному признанию, оказалась в выигрыше, – сегодня это (относительно) наиболее состоятельный, наиболее свободный от каких-либо стеснений, обладающий наибольшим ресурсом возможностей для досуга, учебы, работы, общения и т. д. слой общества. Причем все эти возможности не были «завоеваны» в результате какой-то направленной борьбы, а получены как бы в подарок, благодаря стечению социальных обстоятельств. Отсюда и отсутствие у молодых стимулов для обращения к политическим или иным организованным действиям – ни ради общесоциальных целей, ни ради специфически «молодежных» прав (по образцу студенческих «революций» 1968 года в Западной Европе). Поэтому не молодежь как таковая (как особая группа), а условия ее «взросления» могут быть фактором обновления общества.
Остается обратиться к роли «новой» политической элиты, а точнее – сегодняшней конфигурации сил и средств вокруг элитарных функций. За интересующие нас полтора десятка лет эти функции исполняли три различные структуры. «Перестроечную» элитарную структуру определял вынужденный и неустойчивый союз либерального крыла партаппарата с демократически настроенной интеллигенцией, при чрезвычайно высокой поддерживающей активности массмедиа и молчаливом сопротивлении «старого» аппарата. «Постперестроечная» конфигурация – еще более неустойчивый, пронизанный интригами блок нового чиновничества с олигархами, растерянная и частичная поддержка со стороны демократов, преимущественно служебная, отчасти политтехнологическая роль медиа. И наконец, нынешний элитарный механизм: новая чиновничья верхушка из «силовых» кадров, олигархи отодвинуты в сторону, малочисленные демократы загнаны в угол, наиболее массовые медиа (телевидение) подчинены технологическим запросам.
Но важнее изменение функции элитарных структур. Если в первый из перечисленных периодов публичная функция элиты состояла в возбуждении общественного мнения, во втором периоде – в сохранении инерционной поддержки с его стороны, то в современных условиях это прежде всего стабилизация массовых настроений поддержки власти (но, как уже приходилось отмечать, осуществляемая через периодическую дестабилизацию обстановки).
Конечно, все названные элитарные структуры отличны от партийно-советского образца «ведущей» и «всеведающей» силы. Это можно было бы считать весьма позитивным показателем, если бы центры инициативы и активности в обществе действительно переместились на уровень индивидуальных и институциональных субъектов. Но ни действительно новой, ни устойчивой – на определенную перспективу – конфигурации не возникло. Кого бы ни винить в этом – нерешительность М. Горбачева, неподготовленность демократов, непредсказуемость Б. Ельцина, непреодолимое влияние силовых структур на носителей власти, особенно в правление В. Путина, – трудно представить себе иные, альтернативные варианты развития элитарных структур. Объяснить этот «фатализм наоборот» (примененный к прошлым этапам) как будто довольно просто: ничья сознательная воля и никакое организованное целенаправленное действие не играли существенной роли на всех поворотах второй половины 80-х – 90-х годов. Поэтому все перемены, в принципе, осуществлялись по самым вероятным (т. е. запутанным и нерациональным, «стихийно» складывающимся) траекториям, – именно они задним числом и представляются чуть ли не единственно возможными.
«Понижающая» идентификация?
Неожиданный, даже шокирующий, для исследователей сдвиг в общественном мнении – характер перехода от «советской» к «российской» идентификации человека. Очевидно, что это далеко не просто перемена формальных (паспортных) признаков государственной принадлежности. «Советская» идентификация имела значимую социально-политическую и идеологическую нагрузку (сопричастность к социально-политическому строю, ценностям, противостоящим остальному миру).
В ряду наивно-демократических ожиданий, распространенных в атмосфере «ранней» перестройки, имелась и надежда на то, что освобожденный от этой обязательной причастности человек станет утверждаться как свободная и ответственная личность, правомочный гражданин, равноправный член европейского и мирового сообщества. Вектор изменений оказался другим: на первый план выступила идентификация с семьей, «малой» родиной, этнической общностью, конфессией, в меньшей мере – со «своим» (но уже деидеологизированным) государством. Иначе говоря, произошел как будто определенный сдвиг в сторону идентификационных механизмов «низшего», более традиционного порядка; понижающей адаптации соответствует и тенденция к «понижающей идентификации» человека.
Правда, эта тенденция не является единственной. В анкетах заметной части опрошенных мы обнаруживаем утверждения о том, что «иногда» или «время от времени» они чувствуют себя свободными гражданами, европейцами и т. п. Считать подобные заявления признаками новой идентификации можно с большими оговорками. Декларативная, даже чисто символическая сопричастность к некоторому континентальному или всемирному сообществу может иметь идентификационное значение, но вторичное по сравнению с переживанием «своей» общности как привычной, как средоточия «своих» радостей и «своих» огорчений. А смещение вектора идентификации от тоталитарного идеологизированного государства к государству правовому (т. е. к национально-государственной идентичности), в принципе, не означает понижения уровня сопричастности, – если речь идет о действительно современном, либеральном типе государственности. Проблема в том, насколько далеко российское общество сегодня от реализации подобной модели.
Один из показателей такого расстояния – распространенность патерналистского отношения к государству, которое чаще рассматривается как источник заботы о подданных, чем как институт правового общества. Отсюда следует и обратная реакция: если известная формула английского патриотизма («права она или не права, но это моя страна») предполагает отстраненную рационально-критическую оценку собственного отечества; в российской (и советской) традиции «своя» страна права всегда уже потому, что она «своя», а остальной мир по определению чужд и враждебен. Этнополитические конфликты последних лет (прежде всего, конечно, чеченская война) создают фон для высокого и даже растущего уровня этнической ксенофобии. Прагматическое, поведенческое выражение этой установки – широкая поддержка требований ограничить доступ «южан» в крупные города России, а также высокие показатели отчужденности по шкале «социальной дистанции» (в особенности нежелание видеть «чужих» в качестве родственников).
Очевидно, что распространение ксенофобии, почти не встречающей сопротивления в обществе и на различных уровнях государственного аппарата, отодвигает страну от образцов либерального государства и гражданского общества. Но враждебность, психологическая агрессивность по отношению к «чужим» может стать фактором мобилизации общественных настроений только в исключительных и относительно кратковременных ситуациях (например, на некоторых фазах той же чеченской войны). В большинстве же случаев современная ксенофобия – это скорее оборотная сторона социально-психологическо-го, «массового» комплекса собственной неполноценности.
Позиция и ценности исследователя
Вернемся теперь к проблеме, обозначенной в начале статьи, – положению исследователя (исследовательской группы, коллектива) на пересечении силовых линий общества. Ведь жесткое разграничение «субъективных», человеческих и «научных» интересов в работе конкретного исследователя существует только теоретически или в идеально-типическом случае; на деле это динамичный стандарт, соблюдение которого требует постоянных усилий. А кроме того, сама энергия научного исследования, особенно в общественных науках, если не всегда, то очень часто подкрепляется человеческими и социальными интересами. Отдельная проблема – влияние на исследование таких внешних (социальных, политических) факторов, как ограничения, допуски, запросы, публичность и пр.
Чтобы выстроить ряд сравнений, приходится начинать с рубежей почти 40-летней давности – с первых поисков возможности социологической работы в стране. Немногие помнят специфическую атмосферу тех лет, когда никаких новых общественных ориентиров не существовало, но как будто появилась некая возможность окунуться в среду языка, стиля, методов социального мышления, заметно отличного от доминирующей идеологической догматики. Этого оказалось достаточно, чтобы начать социологические исследования, причем не только индивидуальные, но и коллективные.
К концу 1980-х годов, когда возник новый общественный интерес к социологической работе, проблема позиций исследователя приобрела иной смысл. Главным стимулом социолога стало стремление участвовать в наметившемся общественном обновлении. Научный интерес был теперь ориентирован как бы вовне, в сферы общественных проблем и перемен. Иллюзия долгожданной общественной востребованности, захватившая тогдашнюю демократически-интеллигентскую среду, оказала сильнейшее влияние на круги и кружки социальных исследователей – особенно тех, кто переживал взлеты и крушения надежд предыдущего времени. Как и всякая иллюзия, она сыграла роль движущей силы, в частности стимулировавшей развитие исследовательских интересов и проектов, и в то же время в определенной мере этот интерес и дезориентировала. Желание видеть успешность и глубину перемен затрудняло анализ сложности происходящих процессов. Кроме того, влияние иллюзий всегда кратковременно, волна общественного разочарования, поднявшаяся еще в середине 1990-х годов, к концу десятилетия накрыла даже самую увлеченную исследовательскую среду и вынудила ее вновь переоценить стимулы и смыслы собственной деятельности. Переход от позиций «увлечения» к позиции, условно говоря, «наблюдения» остается довольно сложным.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Ищем человека: Социологические очерки. 2000–2005"
Книги похожие на "Ищем человека: Социологические очерки. 2000–2005" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Юрий Левада - Ищем человека: Социологические очерки. 2000–2005"
Отзывы читателей о книге "Ищем человека: Социологические очерки. 2000–2005", комментарии и мнения людей о произведении.