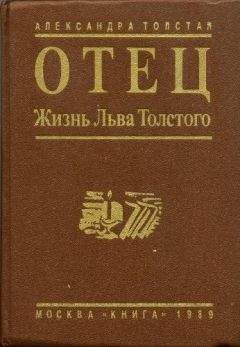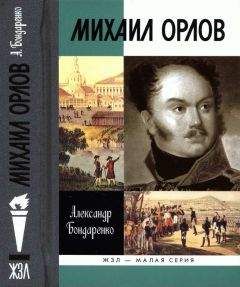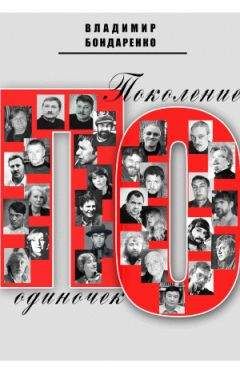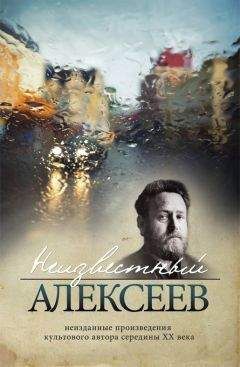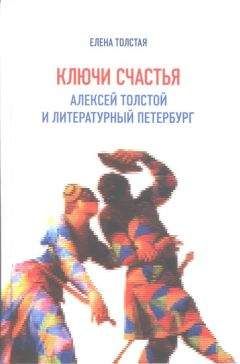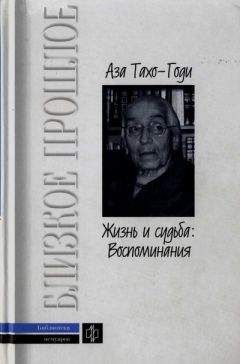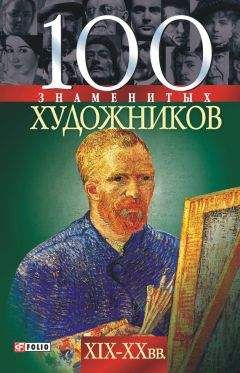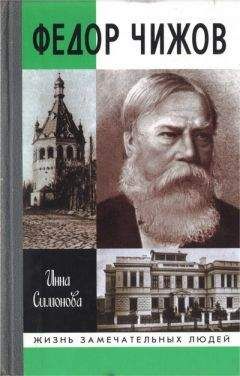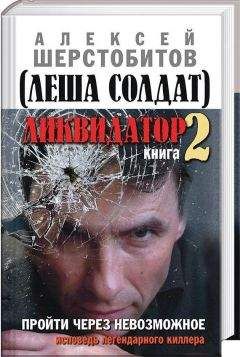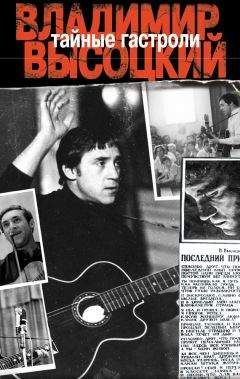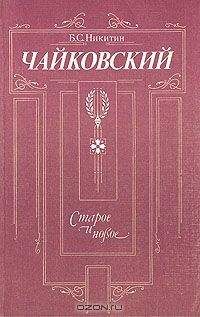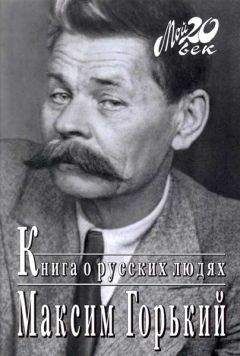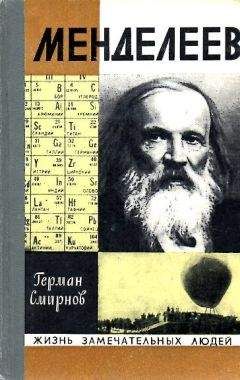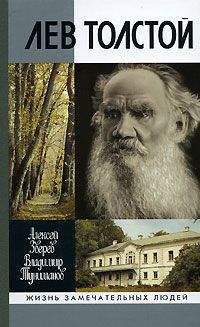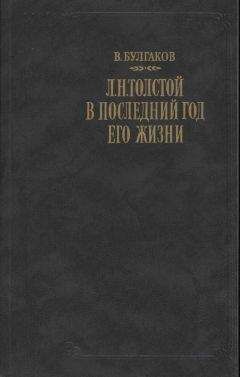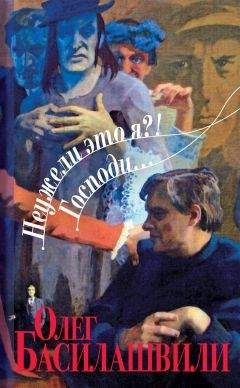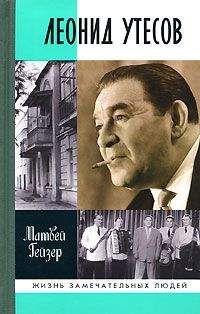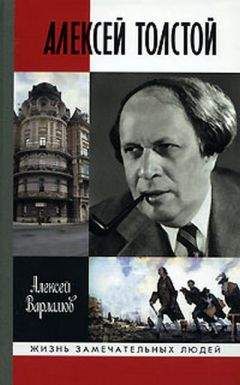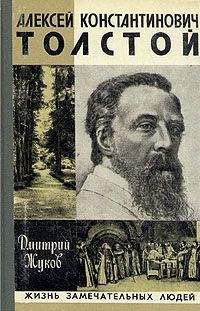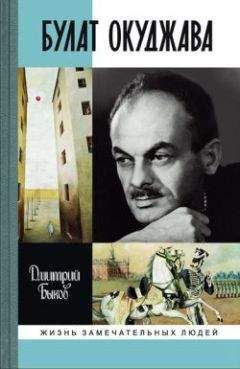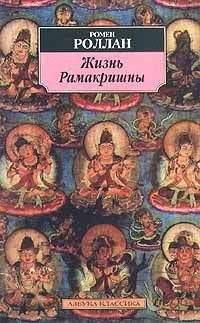Алексей Смирнов - Козьма Прутков
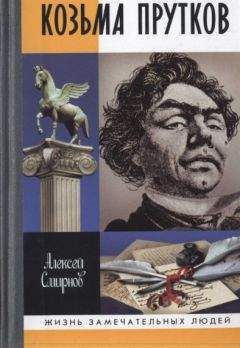
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Козьма Прутков"
Описание и краткое содержание "Козьма Прутков" читать бесплатно онлайн.
Козьма Прутков — один из любимых и давно уже нарицательных авто-ров-персонажей, созданный мистификационным талантом Алексея Толстого и братьев Владимира, Алексея и Александра Жемчужниковых. Популярность Козьмы у поколений читателей огромна по сей день. Его помнят, его цитируют, о нем говорят. Новое жизнеописание отличает полнота и новизна материала. Книга о Пруткове построена на комментированном изложении «биографических заметок» о нем и его «предках»; на материалах жизни и творчества Жемчужниковых и Толстого, в той части, в которой они касаются Пруткова. Фоном жизнеописания послужила обстановка культурной и общественной жизни России середины XIX века, как она отражалась в тогдашней юмористике (в литературе и изобразительном искусстве).
Борису нестерпимо видеть плоды самовластия, а тем временем сам он идет именно к нему и пробивает себе дорогу теми же способами, которыми Иоанн творил свои лютые бесчинства, — потому что Борис понимает: в светлой ризе никогда не достичь ему власти. Здесь Толстой ставит вопрос личного выбора: либо поступись чистотой ризы, либо сохрани непорочность, но останься не у дел. И все же необыкновенный эффект нашего сравнительного восприятия Бориса и Федора состоит в том, что Борис — умный, осторожный, ловкий, «окольный» политик — менее интересен и близок нам, нежели прямой, безыскусный, простодушный царь — полублаженный на троне. Здесь обозначена этическая дилемма, встающая перед человечеством в самые разные моменты истории: мы хотим сильного правления, однако нам ненавистны грязные ризы. Они оскорбляют наше нравственное чувство, причиняют душевную боль, заставляют стыдиться за тех, кто, облачившись в них, делает вид, будто они сияют белизной.
Сценическая судьба трилогии складывалась непросто. В письме 1868 года Б. М. Маркевичу Толстой сообщает о том, что, будучи в Орле, он встретил вернувшегося из Петербурга директора орловского театра, и тот передал, что Комитет по делам печати безусловно запретил к постановке в провинции «Смерть Иоанна Грозного», тогда как разрешение на постановку пьесы А. Н. Островского и С. А. Гедеонова «Василиса Мелентьева» почему-то отдано на откуп губернаторам. Этот произвол вызвал у Толстого целый иронический каскад. Он пишет: «Пьесы разделены на несколько категорий: одни разрешены только в столицах, другие — в провинции, третьи — в столицах и в провинции, четвертые — в провинции с утверждения губернатора. Это весьма напоминает формы парадную, праздничную, полную праздничную, полную парадную, походную праздничную (в поход как на праздник! — А. С.) и парадную походную (в поход как на парад! — А. С.). Несколько наших лучших генералов сошло с ума от такой путаницы, несколько впало в детство — всё застегиваясь да расстегиваясь, двое застрелилось. Сильно опасаюсь, как бы не случилось то же с губернаторами, как бы они не замычали и не встали на четвереньки.
Дорогой Маркевич, давайте представим Тимашеву (министру внутренних дел. — А. С.) проект разделения нашего репертуара на пьесы, которые можно будет играть в городах губернских, но не уездных, пьесы, которые будут играться только в заштатных городах, потом такие, которые можно будет давать в губерниях хлебородных и черноземных, и еще такие, которые будут даваться в местностях песчаных, как Смоленск. Каменный уголь тоже должен быть принят в расчет. Что же касается мест, где Новосильцев добывает нефть, то — поелику он единственен в своем роде, — я предлагаю, чтобы там давали одну-единственную пьесу и чтобы написал ее господин Вельо (И. О. Велио, главный почтмейстер и перлюстратор России. — А. С.)»[375].
Письму Толстой предпослал французский эпиграф собственного сочинения, в переводе звучащий так:
И Мельпомену и Клио
Вы за решетку посадили,
Они меня, месье Вельо,
Привет вам передать просили[376].
После запрещения постановки «Смерти Иоанна Грозного» на одесской сцене местное дворянство в знак солидарности с Толстым дало в его честь обед в Английском клубе. Толстому было за пятьдесят. Слава его уже стала не только всероссийской, но и шагнула за рубежи родины. По существу, акция в Одессе означала признание его творческих заслуг, благодарность за его труд и гражданскую позицию.
На обеде Толстой произнес речь-тост, оставив свой образец еще в одном жанре устного творчества:
«Милостивые государи! Честь, которую вы мне оказываете, так велика и неожиданна, что я прошу вашего снисхождения, если не умею выразить, как бы желал, всей моей признательности.
Ваше внимание, милостивые государи, тем более драгоценно для меня, что оно относится столько же к моей литературной деятельности, сколько к тем задушевным убеждениям, которые я не раз старался ею выразить. Я счастлив, что убеждения эти сходятся с вашими. Они заключаются в сознании, что все мы, сколько нас ни есть, — от высоких сановников, имеющих под своим попечительством целые области, до скромных писателей, — не можем лучше содействовать начатому нашим государем преобразованию, как стараясь, каждый по мере сил, искоренять остатки поразившего нас некогда монгольского духа, под какою бы личиною они у нас еще не скрывались.
На всех нас лежит обязанность по мере сил изглаживать следы этого чуждого элемента, привитого нам насильственно, и способствовать нашей родине вернуться в ее первобытное (то есть ей со-природное. — А. С.) европейское русло, в русло права и законности, из которого несчастные исторические события вытеснили ее на время (вот позиция Толстого-западника. — А. С.).
В жизни народов, милостивые государи, столетия равняются дням или часам отдельной человеческой жизни. Период нашего временного упадка, со всеми его последствиями, составит лишь краткий миг в нашей истории, если мы не в нем будем искать нашей народности, но в честной эпохе ему предшествовавшей (по Толстому, в новгородском вече. — А. С.), и в светлых началах настоящего времени.
Во имя нашего славного прошедшего и светлого будущего (курсив мой. Толстой не виноват, что советская власть превратит эти слова в свое идеологическое клише. — А. С.), позвольте мне, милостивые государи, выпить за благоденствие всей Русской земли, за все Русское государство, во всем его объеме, от края до края, и за всех подданных Государя императора, к какой бы национальности они ни принадлежали!»[377]
Последний пассаж вызвал раздражение националистов, но Толстой никогда и не стремился угодить всем. В то же время обратим внимание на щекотливость положения Толстого — и в этой связи поразимся выверенности его тоста. Представьте себе ситуацию: пьеса графа, церемониймейстера двора, запрещена к постановке правительственной цензурой. В знак протеста дворяне — опора правительства — устраивают публичное чествование автора запрещенной пьесы. Как ему себя вести?
Первый вопрос, возникающий перед ним: согласиться или отказаться? Выказать неблагонадежность по отношению к власти (согласившись) или, проявив осторожность (отказавшись), обидеть своих единомышленников?
Толстой соглашается.
Второй вопрос: как построить речь? О чем, собственно, говорить? Обижаться на запрет? Предавать анафеме цензуру? Оправдываться? Доказывать, какой он хороший? Сетовать на то, сколько душевных и физических сил стоило ему создание трагедии, перечеркнутой одним росчерком высокопоставленного пера? Изображать из себя непреклонного борца? Приносить извинения властям? Заигрывать с аудиторией? Расшаркиваться перед государем?
Нет.
В центре толстовского ответа — мысль об искоренении в народном сознании остатков монгольского духа и возвращении России в европейскую семью; мысль вполне объективная, высказанная без эпатажа, спокойно и веско. А ведь это призыв к отречению от остатков духовного рабства вслед за отменой рабства юридического, к отказу от привычки раболепствовать перед сильным и подавлять слабого. Это призыв к праву и законности в русле европейских свобод (в том числе и к праву свободного слова). Так Толстой защищал себя, не оскорбляя оппонентов.
По убеждению Толстого, никакой диктат и даже никакой самодиктат в творчестве неприемлем. Оно должно произрастать совершенно свободно, бесцензурно. У художника есть единственный цензор — его собственная совесть. «Если бы думать о цензуре, которая подвержена переменам, никогда нельзя было бы достигнуть истины, которая неизменна»[378].
Обращаясь к Маркевичу 11 января 1870 года, Толстой излагает свое понимание цели и предназначения творчества; то понимание, которое поставило его в ряд защитников «чистого искусства»: «Просто ужасно, до какой степени в последнее время не только у нас, но даже и в Германии удалились от единственной, от истинной цели искусства, до какой степени его низвели к назначению простого средства для доказательства той или иной вещи… <…>…все, что хочешь доказать, с успехом доказывается только тогда, когда отрешаешься от желания доказывать… произведение искусства как таковое само в себе несет лучшее доказательство всех тех истин, которых никогда не доказать тем, кто садится к своим письменным столам с намерением изложить их (истины. — А. С.) в художественном произведении… <…>…искусство не должно быть средством… в нем самом уже содержатся все результаты, к которым бесплодно стремятся приверженцы утилитарного, именующие себя поэтами, романистами, живописцами, скульпторами»[379].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Козьма Прутков"
Книги похожие на "Козьма Прутков" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Алексей Смирнов - Козьма Прутков"
Отзывы читателей о книге "Козьма Прутков", комментарии и мнения людей о произведении.