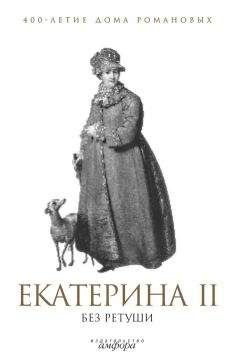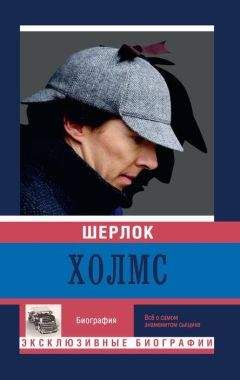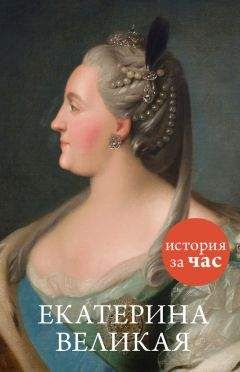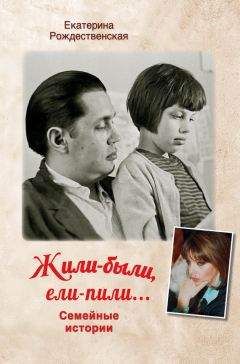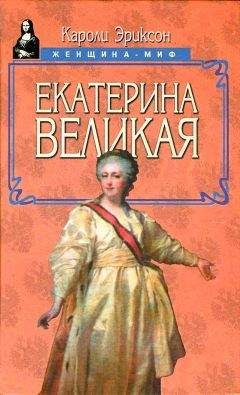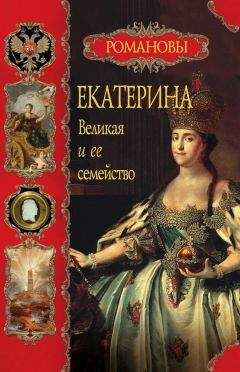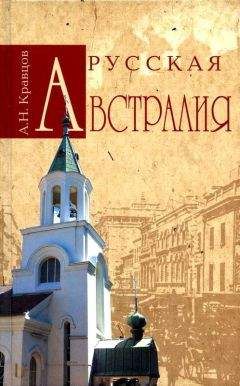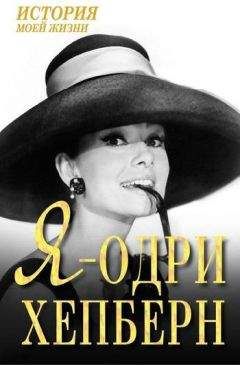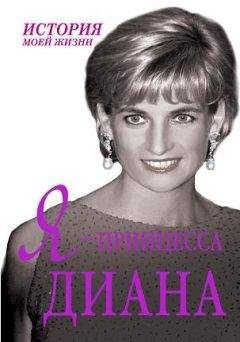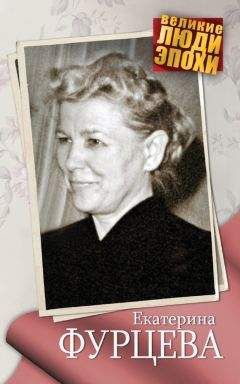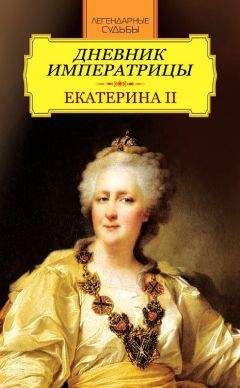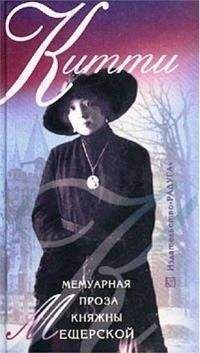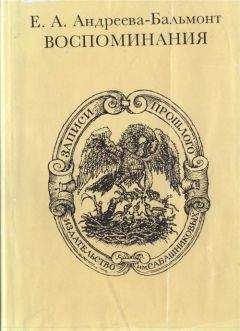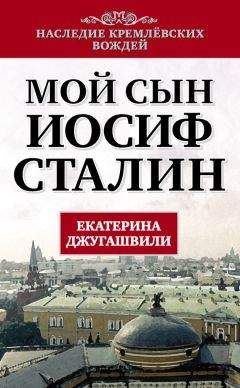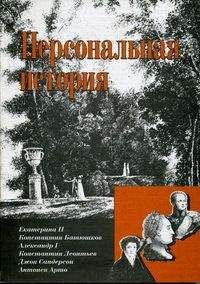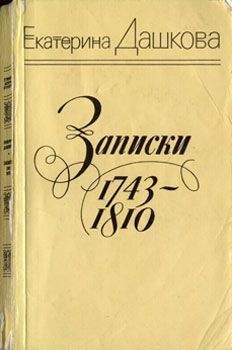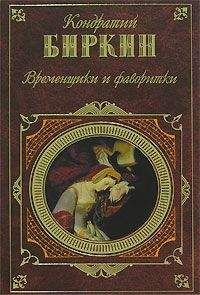Екатерина Домбровская-Кожухова - Воздыхание окованных. Русская сага
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Воздыхание окованных. Русская сага"
Описание и краткое содержание "Воздыхание окованных. Русская сага" читать бесплатно онлайн.
Делая выбор и, разумеется, несомненный в пользу духовности как состояния, как явления нового преображенного во Христе человека, народившегося вместо «ветхого», мне всегда почему-то хочется одновременно и защитить от высокомерных нападок и душевное начало. Или точнее, заступиться за некие рудименты душевности в человеке, хотя бы потому, что именно в недрах душевного «гумуса» и зачинается та, пусть сначала еще преимущественно душевная, начальная любовь-отклик души на зов Божий. Идя на зов, душа способна перерождаться в духе, преодолевать свою душевность, суть которой не в сердечных воспоминаниях о прошлом, а в эгоизме своего «я», как несомненного свойства «душевного», не самоотреченного человека.
«Доколе это я существует, — категорически предупреждал в свое святитель Игнатий (Брянчанинов), — дотоле Христос не может принести нам никакой пользы. «Иже не возненавидит душу свою, не может быти Мой ученик. Иже не приимет креста своего и в след Мене грядет, несть Мене достоин. Обретый душу свою погубит ю: а иже погубит душу свою Мене ради обрящет ю». Господь заповедал погубление души, — писал святитель, — не только ради Его, но и ради Евангелия, объясняя последним первое. Погубление души ради Господа есть отвержение разума, правды, воли, принадлежащих падшему естеству, для исполнения воли и правды Божией, изображенных в Евангелии, для последования разуму Божию, сияющему из Евангелия».
Самоотреченный человек обретает, по слову Спасителя, очищенную и обновленную душу, в которой теперь главенствует дух. Дерзнем ли осудить такого человека, стремящегося к духовному совершенствованию в Боге, за какие-то, если угодно, остаточные явления и невинные пристрастия «обычной» душевной человеческой жизни? Один вполне исправный монах любит держать свою келью в чистоте и порядке, выращивать цветы и пр., а другой — тоже вполне исправный, — уголь из печки выкладывает прямо на пол и весь остальной свой скарб держит там же. Святые отцы знали, что как и любовь к уюту, к чистоте, к порядку жизни, так и полное безразличие к благообразию всего внешнего — как первое, так и второе вполне могут принадлежать людям высокой духовной жизни, поскольку все эти их невинные душевные особенности уже давно преобразились и подчинились духу. Все у них — Бога ради: и цветочки под окном и угли на полу…
Бабушка садилась за рояль и наигрывала любимые старинные вальсы времен ее молодости или те самые «стежки-дорожки», и незамысловатые эти мелодии погружали меня во время, в котором не я жила, куда мне очень надо было пробраться, чтобы понять бабушку. Что именно я хотела понять — мне и сейчас трудно обозначить. Скорее всего, мне надо было что-то узнать, чтобы научиться — через ее жизнь — жизни для себя. Мне не хватало этого познания. Бабушка была таимным, как встарь иногда говорили (я слышала в нашей деревне это слово в детстве), то есть скрытным человеком, а песенка и вальсы о чем-то мне говорили, что-то сообщали, являясь сокровенными свидетелями ее жизни, пожалуй даже знаками, в которых были зашифрованы какие-то страницы. А я догадывалась о них, но тогда спросить не умела…
«Позарастали стёжки-дорожки, /Где проходили милого ножки, /Позарастали мохом, травою, /Где мы гуляли, милый, с тобою. /Мы обнимались, слёзно прощались, /Помнить друг друга мы обещались»…
О чем напоминали бабушке эти грустные простенькие «стежки» — о спешном в начале 18 года отъезде заграницу мужа после того, как он, офицер «Дикой дивизии», Георгиевский кавалер, чудом выбрался из застенков ВЧК… О своем раннем всежизненном одиночестве?
…Обвенчались они с дедом Иваном Домбровским в 1912 году. В 1913 родился сын, а в 16 — дочка, а пожили-то они вместе совсем недолго: как только началась Первая мировая война, осенью 1914 года дед поступил на краткосрочные курсы в Николаевское кавалерийское училище в Петербурге. Бабушка все эти годы оставалась в Орехове и с мужем виделась-то несколько раз. В это время началась многолетняя эпоха ее крестьянствования — первые три года войны вместе с отцом Александром Александровичем Микулиным они предпринимали попытки наладить хоть сколько-то прибыльное хозяйствование: маслобойку или небольшой кирпичный заводик в нашей небольшой усадьбе (ничего из этого не успело выйти, да и наверняка бы и не вышло), чтобы обеспечить семью продуктами. А с 1917 года бабушка уже безвылазно жила в деревне. «Восемь лет работала в поле» — писала она в анкетах.
Одна с лошадкой и с прадедовскими орудиями труда пахала, сеяла на небольшом оставшемся наделе зерновые, сажала огород, сама обмолачивала старинным, сохранившемся в амбаре с XVIII века неподъемной тяжести цепом. Руки были золотые, труда никогда не боялась, энергии было не занимать, и сердце было золотое, самоотверженное, которое уже тогда она и надорвала…
Бабушка Катя была даже в своей семье человеком отличным ото всех. Трудолюбивы, способны, исключительно добросовестны были все. Но у нее это было как-то иначе. Она всегда любила простоту жизни. С самого отрочества. Безупречно воспитанная, хорошо образованная, деликатная, — откуда в ней была эта тяга к земле, которую я всегда слышу и в себе? Какое-то особенное расположение к деревенским людям, к крестьянствованию. Жизнь бабушка прожила трудную, видела много лишений, сердце ее понесло много потерь. Но не потому только она не имела ни малейшей тяги и склонности к роскоши, к комфорту, да просто к удобствам каким-то. Полнейшая непритязательность, как и сознательный и стихийный, природный выбор.
«Ах, Катюшок», — говорила она мне, допивая свой бледный чай («бледной» была наша жизнь тогда), — а чаевница бабушка была истинно московская, — Что может быть вкуснее чашки чая с белым хлебом! Какое пирожное с этим может сравниться!»
Вот эта ее любовь к простой и бедной жизни, к скудости ее, мне теперь говорит о каком-то даже монашеском ее устроении. Ведь и жизнь семейная не сложилась, как осталась непознанной и безответной ее первая и всежизненная любовь еще с гимназических времен. Другой крест ей вручал Господь…
Бабушкина молодость, непочатый край нерастраченных сил, и ее никому так и не открытая боль одинокости, преследовавшей ее и в постоянном многолюдстве окружения, и в самих предчувствиях бурь, настигавших в эпоху Серебряного века многих и отнюдь не только одиноких людей.
Бабушка играла, и милые эти обрывки мелодий тут же порождали в моем воображении набросанные всего двумя-тремя штрихами, воздушные, почти размытые и еле тронутые кистью акварели…
Рисовала мне эта песенка окраину старинного усадебного парка, где кончались аллеи старинных лип-великанов, и начиналась деревенская околица, а за ней порядок изб, где в каком-нибудь 1908 или 1909 году, как и годами раньше, на притоптанной лужайке собиралась на посиделки под гармонику ореховская деревенская молодежь. И среди них молодая моя бабушка — своя среди еще недавних крепостных ее предков и никогда, упаси Боже! — не превозносившаяся пред людьми другого сословия. Все знали, что и косарям Катя не уступит, и стог не хуже других крепко и ладно сметать сумеет, и что друг она верный… На посиделки приходилось ей убегать из дома после вечернего чая с замираниями сердца, тайно — через окно. А из домашних никто и не знал, как безудержно и отчаянно отплясывала Катя «русского» со своими деревенскими сверстницами и сверстниками…
А я — знала, потому что бабушка сама мне о том сказывала.
Знала я и то, что она немало в своей жизни земных красот повидавшая, — и в Швейцарских Альпах, и в Италии, и на Босфоре, и в горах Кавказа, больше всего любила простор русских полей, никогда не застивших своими холмами неба; что тихими летними ночами, забравшись в поле на высокую кладь сена, могла она часами смотреть на звезды…
Бабушка знала и любила звездное небо, почти так же хорошо, как и археологию. Из-за этого-то неба и этой-то земли и не уехала она из России вслед за мужем в 1918 году, оставшись на Родине с двумя малютками и престарелыми родными на руках.
Странно, но эти не мои воспоминания были для меня всегда желаннее своих собственных, и как-то сильнее, пронзительнее мне всегда со-чувствовалось и скорбелось не о своей жизни. Отчего так было, кто знает? Может те, кто были в моей жизни со всем, что им было дорого и что они любили, оказались мне дороже того, что было у меня своего (исключая только неописуемое счастье «первой любви» моего воцерковления)…
Возможно, сказывалось и общее оскудение благодатью всей нашей русской жизни ко второй половине XX века, возможно и то, что моя реальная жизнь была действительно слишком бедна той поэзией, которая еще покрывала старинным флёром очарования жизненные стези старших поколений моих родных, несмотря даже на действительно явно ощущавшуюся всеми в предреволюционные годы и тем более позже, сконцентрировавшуюся в воздухе духовную тяжесть и мрак. А мне вовсе не хотелось довольствоваться разглядыванием картин под флёром. Сердце жаждало «живой жизни», реального узнавания глубинной правды о том, что хранилось в моей памяти: о предках, о бабушке тоже, а вместе с ними и о себе, как части целого под названием «род». Где только я не искала подходы к этим «правдам», а нашла, надеюсь, только в Боге…
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Воздыхание окованных. Русская сага"
Книги похожие на "Воздыхание окованных. Русская сага" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Екатерина Домбровская-Кожухова - Воздыхание окованных. Русская сага"
Отзывы читателей о книге "Воздыхание окованных. Русская сага", комментарии и мнения людей о произведении.