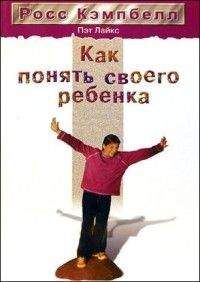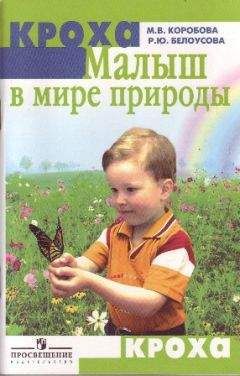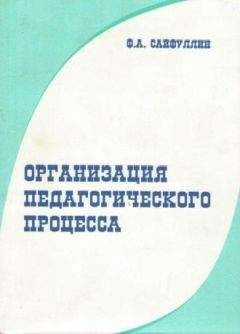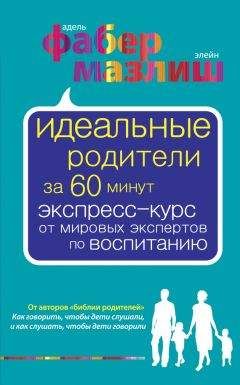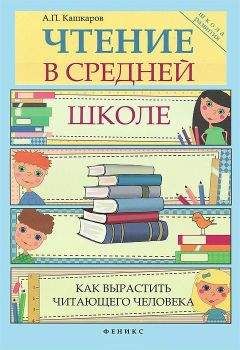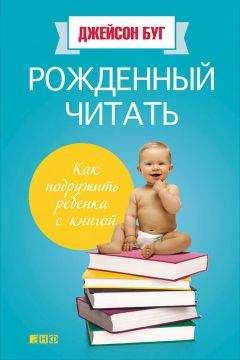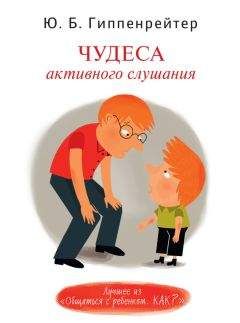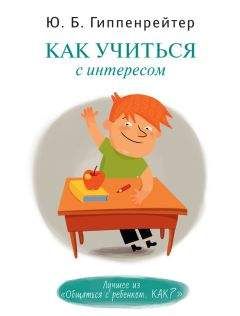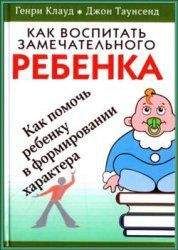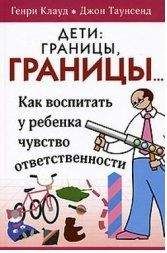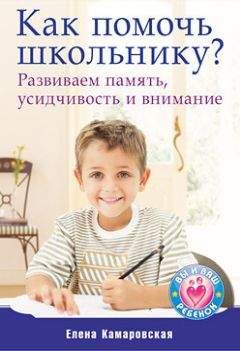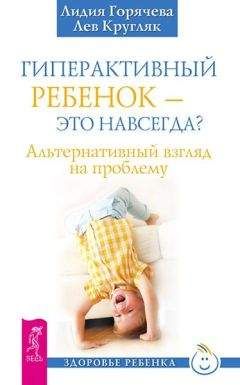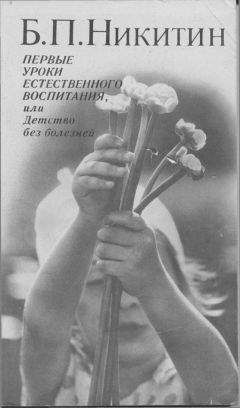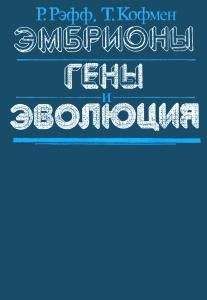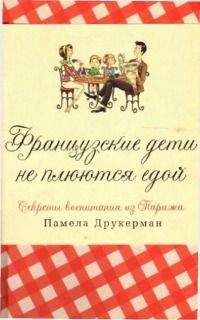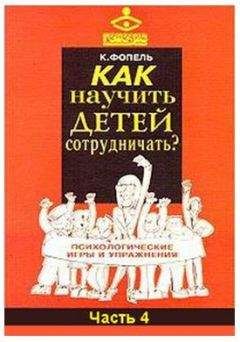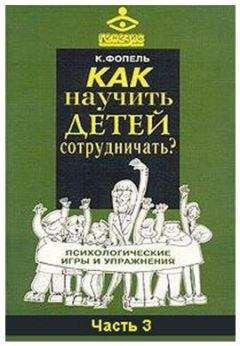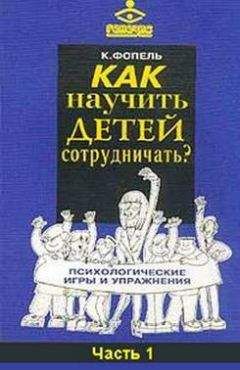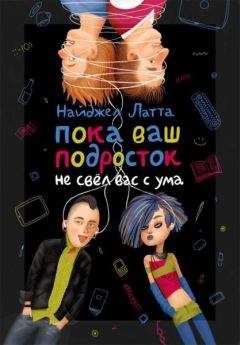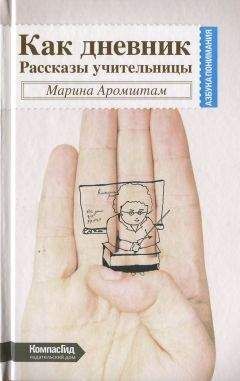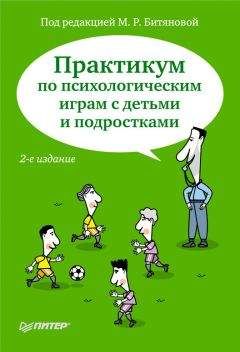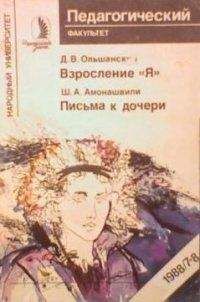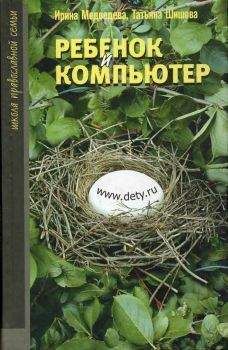Светлана Рябцева - Дети восьмидесятых
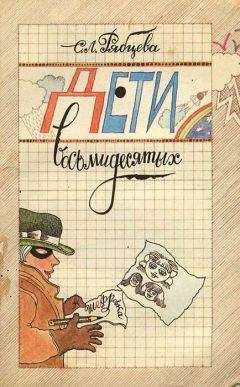
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Дети восьмидесятых"
Описание и краткое содержание "Дети восьмидесятых" читать бесплатно онлайн.
Эта книга — откровенный разговор с читателем о трудностях и проблемах первых лет школьной жизни, о борьбе за утверждение принципов гуманистической педагогики. Основное внимание автор, учительница младших классов, уделяет нравственному становлению своих воспитанников, раскрытию методики общения, в основе которой — творческая деятельность, юмор, игра.
Для учителей.
Во втором ряду сидит мама Сережи П. Недавно ей вернули родительские права. Сына она забрала из детдома, но он искалечен непоправимо: тяжелая умственная отсталость. Он не может учиться, не способен контролировать себя, прогнозировать результаты своих действий. Поэтому я в постоянном напряжении: как бы чего не натворил — не со зла, нет, по неразумению.
Всякое у нас бывало… Перемена, надо готовиться к следующему уроку. Отвернулась к доске, выпустив Сережу из поля зрения, — вдруг тонкий отчаянный крик; от которого всё внутри похолодело. Женя Н. согнулся, схватившись за голову. Руки, голова в крови. Рядом Сережа с метром в руках. Он-то и ударил Женю концом тяжёлой металлической линейки по голове, причём не со зла, а «просто так». Но уж силы-то у него хватает. Тогда всё обошлось, рана оказалась неопасная. Но ведь Сережа не виноват, что родители ещё до появления сына на свет утопили его разум в водке.
Сейчас мальчик выступает вместе со всеми, поёт, как умеет, песню о маме «Самая хорошая», поздравляет свою мать, дарит ей поделку.
Тяжёлый день 8 Марта…
Живём дальше. Не готовим себя к жизни, а именно? живём. С оптимизмом смотрим в будущее. Тренируем чувства, развиваем их. Нет, не рекомендуемые много-мудрой методикой «чувство патриотизма», «чувство интернационализма», «чувство коллективизма», а также «чувство глубокого уважения к людям труда». Честное слово, понятия не имею, как можно в детях безо всякого фундамента «строить» подобные высокие чувства, и умираю от зависти к составителям методических: пособий, которые с уверенностью, свободой и даже некоторой изящной небрежностью запросто оперируют этими понятиями, включая их в длинные перечни, смысл которых опять сводится к сакраментальному: ребёнка надо воспитывать, так, чтобы он получился воспитанным. Как жаль, что сидят они со своим богатым багажом знаний и умений в кабинетах, книжки пишут. А ведь скольких строителей коммунизма могли бы воспитать, следуя своим собственным рекомендациям! Но почему-то не идут работать в школу…
«Первоклассники прежде всего должны усвоить понятия о доброте, доброжелательности, отзывчивости, справедливости, научиться их различать». Как все просто! И зачем нужна диалектика с её законами, зачем психология с её категориями установки, мотивов, потребностей? А уж литература, мучительно размышляющая над вопросами добра и зла, справедливости, — и подавно, на все эти вопросы запросто дадут ответы теоретически подкованные первоклассники. И не важно, что между их правильными словами и поступками будет лежать пропасть.
Мы не можем позволить себе витать в предлагаемых нам эмпиреях. Нам бы решить свои земные проблемы, одна из которых по-прежнему — учиться движению, да и долго ещё учиться. Такая вот банальность, хотя 12 декабря я торжественно заявила:
— Сегодня у меня большой праздник. Сегодня, впервые со дня нашего знакомства, мне никто из вас не наступил на ногу. Этот факт надо расценивать как крупное достижение.
Дети смущенно заулыбались. А Алёша П. подошёл и тихо сказал:
— Знаете, я очень буду стараться хорошо себя вести.
Знаю, знаю, что все хотят, но многие не умеют. Научиться поможет театр. Он даст возможность остановиться на особенностях каждого движения, проанализировать его целесообразность и выразительность, отработать, отрепетировать. И главное — незаметно, радостно, без всякого нажима с моей стороны, а значит, и без сопротивления. Играя. Но это совсем не значит, что мы труд заменяем игрой, — нет! Трудимся мы в поте лица, но это труд, приносящий радость: не только результат, но и сам процесс. Начинаем с театра, но потом ребята научатся находить радость в любой работе: умственной, физической, духовной.
Кстати, я часто пишу слова дети, ребята. В классе я их не употребляю никогда. Не из каких-то педагогических соображений, а просто почему-то язык не поворачивается. Обращаюсь «товарищи», «граждане» или «гражданята», «товарищи сотрудники» или «господа» — в зависимости от их трудолюбия или лени в данный момент. В особых случаях могу и «вашим сиятельством» назвать, если вдруг вылезли у кого-то барские замашки.
Берём стихотворение Э. Успенского «Всё в порядке».
На сцене творится нечто невообразимое: безпорядок, вопли, толкотня, прыжки. Похоже, идёт сражение, поскольку слышны выкрики: «Пиу! Падай!» Правда, на войне не принято поражать противника путем бросания в него подушек.
Безобразия творят Вася, Денис и Серёжа. Именно творят, создают. Задача перед ними стоит грандиозная. Они должны непосредственно играть в войны, импровизируя реплики и движение на основе взаимодействия, и непременно забыть о зрителях. Но вместе с тем создать художественный образ, ни в коем случае не забывая о зрителях. Как же это надо себя контролировать, чтобы и играть, и критически следить за своей игрой! Да ещё и реплики Автора не прозевать. Вот он заговорил:
Мама приходит с работы,
Мама снимает боты,
Мама заходит в дом,
Мама глядит кругом.
При первых же словах Серёжка убегает. Ему-то хорошо: погостил ребенок — пора и домой. Сыновья мечутся по квартире, лихорадочно пытаясь навести порядок. Но Автор неумолимо продолжает… Всё кончено. Остаётся только замереть посреди комнаты по стойке «смирно», плечом к плечу и опустить головы как можно ниже. Входит мама.
— Был на квартиру налёт?
(Сыновья отвечали хором. Дальше оправдываются поодиночке.)
— Просто приходил Серёжка,
— Поиграли мы немножко.
— Значит, это не обвал?
— Нет.
— Слон у нас не танцевал?
— Нет.
— Очень рада. Оказалось,
Я напрасно волновалась.
Дети думают, что мы просто ставим интересную сценку, а мы-то отрабатываем точность реакции, произвольность движений, гибкость переключения. Пытаемся сочетать жёсткую заданность со свободой импровизации, а это фантазия и вдохновение. Словом, укладываем на ложку кучу горошков.
Эта самая импровизация сыграла с нами шутку год спустя. Вася, сказав: «Поиграли мы немножко», простодушно развёл руками, шмыгнул носом, грациозно утёр его рукавом и непередаваемым движением локтей и туловища подтянул штанишки. Ни один артист не смог бы проделать всю процедуру с такой непринуждённостью. Вася смог: он играл себя. Он сам такой: славный, наивный.
Народу было много. Принимали нас хорошо — смех не умолкал. А тут зрители буквально застонали. Наташа Л. — она играла маму — со смеху согнулась пополам, и ей пришлось оправдывать позу: делать вид, что она еще не доснимала свои боты до конца (т. е. она их давно уже сняла, но, так сказать, не полностью, частично). Героически взяв себя в руки, исполнители закончили выступление, поклонились, а за кулисами попадали от хохота.
(Брать себя в руки, владеть проявлением своих эмоций, сдерживаться — этому тоже учил театр. И учил находить выход из положения.)
Горячие аплодисменты заработали в тот день все ребята. Но с особым удовольствием зрители приветствовали Васю. Того самого, которого бросила мать…
Не могу понять, каким надо быть человеком (да и человеком ли!), чтобы бросить своего ребенка. У меня дома одна — своя, да здесь тридцать два — тоже своих. Это, конечно, многовато, лучше бы учить человек двадцать пять. На всё, что хотелось бы сделать, просто не хватает ни сил, ни времени, ни возможностей. Задумываюсь: а вот пришла бы какая комиссия (предположим, спустилась с неба на облаке) и предложила перевести от нас в другой класс пять человек… нет, троих… нет, кого-то одного. Интересно, кого бы я отдала? Самого «трудного»? (Есть такой «термин» в школе.) Но у меня все трудные, сложные, особенные, неповторимые. Обыкновенных нет, тем и интересны. А то, что они с таким трудом обретают себя, не вина их, а беда. Беда детей восьмидесятых. Общество болеет — страдают в первую очередь дети.
Таня Г. Складывается впечатление, что внутри у неё какая-то злая пружина, которая и толкает ни в чём не повинную Таню на злые дела. Никто из нас ни разу не видел улыбки на её лице. Она довольно скалится, если кто-то упал и ушибся или ещё что нехорошее случилось. В столовую ходит одна, в пару ни с кем вставать не желает. В конфликтных ситуациях раньше кусала оппонента, но могла и плюнуть, если не в состоянии была дотянуться, чтобы укусить. Потом стала лягаться и царапаться. К концу года, исчерпав все средства общения, только ругалась и шипела. И ничегошеньки за год не изменилось к лучшему. Но я мыслю диалектически: накапливается положительное количество, значит, будет и качественный скачок — куда он денется! Надо работать и ждать. У меня такое ощущение, что все эти фортели — нечто внешнее, неглубокое, вроде коросты, от которой больше всех мучается сама Таня. И если коросту снять, под ней откроется вполне милая девочка. |Так потом и оказалось.)
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Дети восьмидесятых"
Книги похожие на "Дети восьмидесятых" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Светлана Рябцева - Дети восьмидесятых"
Отзывы читателей о книге "Дети восьмидесятых", комментарии и мнения людей о произведении.