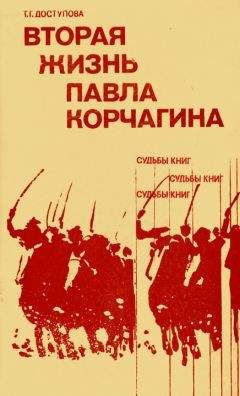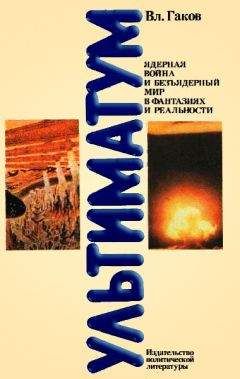Елизавета Кучборская - Реализм Эмиля Золя: «Ругон-Маккары» и проблемы реалистического искусства XIX в. во Франции

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Реализм Эмиля Золя: «Ругон-Маккары» и проблемы реалистического искусства XIX в. во Франции"
Описание и краткое содержание "Реализм Эмиля Золя: «Ругон-Маккары» и проблемы реалистического искусства XIX в. во Франции" читать бесплатно онлайн.
Дантовские краски этой сцены, написанной мощной кистью, создают эффект присутствия. И он достигнут не натурализмом описаний. Если продолжить эту ассоциацию, великий итальянский поэт, восклицая: «Представь, читатель». «Я это видел сам», — приковывал внимание не столько к картинам изобретательно и наглядно изображенных телесных адских мук, сколько к невидимой «язве души». Психологическая насыщенность, символическая углубленность и многоплановость образов не позволяют читателю сосредоточиться только на внешнем облике явления. Данная ассоциация может прояснить в романах Золя некоторые мотивы, расцениваемые обычно как натуралистические.
* * *Во французской литературе, где антиклерикальная традиция издавна развивалась и поддерживалась писателями, чьи имена принесли славу нации, роман Эмиля Золя «Завоевание Плассана» представляет собой заметное, яркое явление. Но книга вправе претендовать на серьезное значение и в жанрах социально-психологическом и семейно-бытовом.
Это реалистическое произведение, где царит сюжетная собранность, композиционная упорядоченность и логическая ясность, заставляет вспомнить глубокое замечание Герцена, помещенное в «Письмах из Франции и Италии». Сравнивая внутреннее единство конфликтного действия с единством в природе, он находил, что и там и тут «все независимо и все в соотношении, все само по себе и все соединено»[126].
Политический роман с богато разработанным антиклерикальным планом; психологический роман с вторжением в область науки, малоисследованную в эпоху Золя; семейно-бытовой роман с отказом от камерности этого жанра — все эти линии соединил замечательный художник, достигнув поистине органического их слияния, полного взаимопроникновения в «Завоевании Плассана», где «все независимо и все в соотношении…»
«Проступок аббата Муре»
«…этот способен раздавить свое сердце, как давят блоху. Наверно, бог дает ему такую силу».
(Э. Зол я. Проступок аббата Муре, кн. 3, гл. III)Золя писал Тургеневу в июне 1874 года о «Проступке аббата Муре»: «Роман, о котором я Вам говорил, совершенно изнурил меня. Наверное, я хочу втиснуть в него слишком многое. Замечали ли Вы, в какое отчаяние может привести нас женщина, которую мы чересчур любим, или книга, которую мы чересчур лелеем?»[127]. Книга была впервые опубликована в России, в переводе с рукописи, в журнале «Вестник Европы» (1–3 номера за 1875 год); во Франции в издательстве Шарпантье вышла в апреле 1875 года.
Через много лет Золя упоминал о замысле другого романа, подобного «Проступку аббата Муре»[128], чтобы «этот последний не стоял особняком в цикле»; автор имел веское основание говорить об особом месте этой книги в серии «Ругон-Маккары». По сюжету и стилю, по форме, совершенно своеобразной, она действительно далека от уже написанных частей огромного целого. Но проблематикой этот роман, несомненно, очень тесно связан с циклом. Он продолжает антиклерикальную тему, которая так мощно прозвучала в «Завоевании Плассана». Проблема церкви берется сейчас не в социально- историческом плане, как в предыдущем романе, но в философском аспекте, существенно расширяющем тему религии, реакционную роль которой Эмиль Золя понимал вполне.
Линия наследственности сохраняется в этом романе. Сын Марты Ругон и Франсуа Муре Серж, потеряв в один и тот же день родителей «вследствие драмы, всего ужаса которой он так и не постиг», стал священником, благодаря «особой наследственной нервности» натуры. На лоне природы, в сказочно-прекрасном Параду он повторил «грехопадение Адама», любил Альбину. Когда же церковь, «этот вечный враг жизни», вернула его себе, аббат Муре сам совершил обряд погребения погибшей подруги. В этой краткой записи доктора Паскаля, фиксирующей лишь внешнюю сторону событий, разумеется, не мог быть отражен весь драматизм столкновения жизни и смерти, составляющий пафос романа «Проступок аббата Муре».
Мопассан считал эту книгу «исполненной исключительной мощи». Он признавался: читая ее, «я испытал странное ощущение: я не только видел, но как бы вдыхал то, что Вы описываете, ибо от каждой страницы исходит крепкий дурманящий аромат. Вы заставляете нас ощущать землю, деревья, брожение и произрастание; Вы вводите нас в мир такого изобилия, такого плодородия, что это ударяет в голову…. я заметил, что совершенно охмелел от вашей книги, да и сверх того пришел в сильное волнение»[129].
Спиритуалистической религиозной идее, отрицающей счастье земного существования, Золя противопоставил все неисчерпаемое богатство, всю щедрость созидательных сил природы, красоту и гармонию видимого материального мира.
* * *Первые страницы романа можно рассматривать как экспозицию главной темы; они очень четко определили тон, в котором будет развиваться эта тема «великой борьбы между природой и религией».
В деревенской церкви, напоминающей не то выбеленный сарай, не то заброшенную овчарню, Серж Муре служит раннюю обедню. В бедный храм, где потолок грозил обрушиться, убранство было скудно, покровы ветхи, а священническое одеяние истлело от старости, «пришло солнце». И сразу пустая церковь будто наполнилась «живой толпою». Снаружи донесся «веселый шум просыпающихся полей: привольно вздыхали травы, обогревались на солнышке листья», вспархивали птицы. Ветви могучей рябины прорвались в окна, трава пробивалась сквозь щели полов, «грозя заполнить собою церковь». Воробьи, влетевшие через разбитые стекла, чирикали и дрались на полу, среди хлебных крошек, перебивая громким щебетом латынь священника. В церкви, полной солнечного света и птичьего гама, преобразилось все. По оштукатуренным стенам, по статуе пресвятой девы «пробегал трепет жизни». Богоматерь будто улыбнулась младенцу «нарисованными губами». Солнечные лучи «совсем поглотили» огоньки двух свечей. Среди этой ликующей жизни один лишь Христос, «оставаясь в полумраке, напоминал о смерти, выставляя напоказ страдания своей намалеванной охрой и затертой лаком плоти».
«Ite, missa est» («Идите, обедня окончена»). Эти заключительные слова обряда, собственно, были излишни: в церкви не видно было ни одного прихожанина. Жители селения Арто, в котором иные лачуги «совсем почернели от нищеты», работали в этот час на земле, отвоеванной у скал. Аббат вышел на паперть.
Ему навстречу неудержимо протянулось множество рук. Громадные кусты лаванды и вереска, побеги жестких трав — «все это лезло на паперть, распространяя свою темную зелень до самой крыши», обвивая церковь «плотной стеной узловатых растений». В этот пронизанный солнцем утренний час «жизнь так и бурлила в природе: от земли поднималось тепло, по камням пробегала молчаливая, упорная дрожь». Аббат Муре смотрел и не видел. На все, что перед ним открылось за порогом церкви, отброшена была «мертвящая тень» духовной семинарии. «Невидящие глаза священника неизменно созерцали душу, в них жило одно лишь презрение к греховной природе», и он не замечал ни солнца, ни буйства трав, не слышал этой «горячей подземной работы, казалось, не ощущал наступления торжествующей жизни. Ему только почудилось, что ступени шатаются…»
День, вынесенный в экспозицию, — это день великих перемен в жизни Сержа Муре, перемен не внезапных, но психологически глубоко подготовленных. Нашедший в бедном селении Арто «восторги монастырской жизни», полностью отдавшийся вере, он не знал искушений, борьбы с самим собой. «До этого дня он ни о чем не сожалел, ничего не желал, ничему не завидовал». День обрушился на него множеством ощущений. В незримой преграде, которая заслоняла от аббата земной мир и делала его «слепым и глухим ко всему», обнаружились просветы.
«Откуда взялась такая тоска? Что за неведомое смятение медленно росло в нем, сделавшись, наконец, нестерпимым?» Ночью, уже заболевая, он припомнит, что «с самого утра, начиная с половины обедни, когда солнце вошло в церковь сквозь разбитые окна», он испытывал смутный трепет; глухие голоса природы неясно доносились до него.
С глаз его как бы спала пелена, когда он очутился в Параду: посетил с дядей — доктором Паскалем — умирающего управителя огромной заброшенной усадьбы — Жанберна. Но ни доктор, ни священник там не потребовались: больной вернулся к жизни, сам сделав себе кровопускание садовым ножом, а о том, чтобы примирить этого старого безбожника с небом, не могло быть и речи. В доме Жанберна, стоявшем среди целого «океана листвы», аббат Муре услышал нечто, напоминавшее «ропот волн, ударяющихся о стены». Он увидел в потоках ослепительного солнечного света, через проем двери, большой желтый цветок посреди лужайки, каскад воды, падавшей с высокой скалы; увидел «громадное дерево, сплошь усеянное птицами». Все это затонуло среди такого буйства растительности, что казалось — «весь горизонт цветет».
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Реализм Эмиля Золя: «Ругон-Маккары» и проблемы реалистического искусства XIX в. во Франции"
Книги похожие на "Реализм Эмиля Золя: «Ругон-Маккары» и проблемы реалистического искусства XIX в. во Франции" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Елизавета Кучборская - Реализм Эмиля Золя: «Ругон-Маккары» и проблемы реалистического искусства XIX в. во Франции"
Отзывы читателей о книге "Реализм Эмиля Золя: «Ругон-Маккары» и проблемы реалистического искусства XIX в. во Франции", комментарии и мнения людей о произведении.