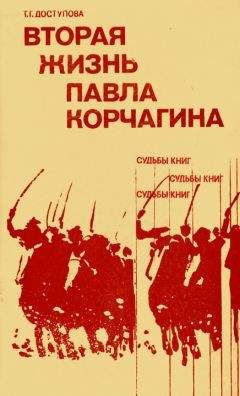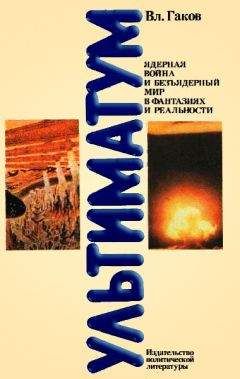Елизавета Кучборская - Реализм Эмиля Золя: «Ругон-Маккары» и проблемы реалистического искусства XIX в. во Франции

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Реализм Эмиля Золя: «Ругон-Маккары» и проблемы реалистического искусства XIX в. во Франции"
Описание и краткое содержание "Реализм Эмиля Золя: «Ругон-Маккары» и проблемы реалистического искусства XIX в. во Франции" читать бесплатно онлайн.
В тот вечер, когда отвергнутая аббатом Муре Альбина возвращалась в Параду, брат Арканжиас бурно веселился. Повод для веселья у него был. Вся краткая десятая глава III части занята сценой в кухне церковного дома. Там шла игра в карты. Арканжиас и старая служанка Тэза «хохотали так, что стены тряслись». Монах был неистощим на шутки: поднимал стол с горящей лампой, бесстыдно плутовал, становился на четвереньки, изображая волка… Переполнявшая его радость искала выхода. «Усевшись верхом на стуле, он проскакал вокруг стола». Повалился на пол. Болтая в воздухе ногами, заявил: «Всякий раз, как господь соизволяет послать мне развлечение, он наполняет звоном мое тело. И тогда я катаюсь по полу. От этого весь рай смеется» («Quand il consent a m'envoyer une recreation, il sonne la cloche dans ma carcasse. Alors, je me roule. Ja fait rire tout le paradis»).
Смело написанная, эксцентричная сцена временами приближается к гротеску, оставаясь, однако, в границах жизненно возможного. Юродствующий брат Арканжиас жалок и страшен, бунт искаженной природы вызывает отвращение. «„Я когда верчусь, воображаю себя божьим псом, — объяснял он аббату Муре. — Глядите, вот я кувыркаюсь для святого Иосифа. А сейчас — для святого Иоанна, а теперь — для архангела Михаила. А это вот для святого Марка и для святого Матфея“. И, перебирая целую вереницу святых, он прошелся колесом по комнате».
Пока брат Арканжиас тешил ангелов, аббат Муре предавался размышлениям о своем проступке. Композиция данной сцены поддерживает впечатление параллельности развивающихся линий, глубокой внутренней общности, несмотря на их явное внешнее несходство. Брат Арканжиас галопировал верхом на стуле по кухне; буйствовал, пробуя силу; бился об заклад, что задом высадит дверь в столовую; громовым голосом распевал «Повечерие», в конце каждого стиха хлопая картами по ладони…
Аббат Муре изнемогал от скрытой «яростной, непрестанной битвы с самим собою». У него не хватало сил подняться. «Он приложил лоб к стеклу и глядел в ночной мрак, постепенно засыпая и впадая в оцепенение, похожее на кошмар».
Эти планы ассоциируются. В сниженном виде, в уродливых патологических формах в Арканжиасе раскрывается черта, которая составляет важную сторону и образа Муре. Патологическая аффектация брата Арканжиаса и состояния религиозно-мистического транса, обычные для аббата Муре, имеют одно происхождение, относятся к области психических аномалий. Но, рисуя отклонения в сфере психики, Эмиль Золя в данном романе неизменно сохраняет социальный аспект. Недаром брат Арканжиас называл себя «божьим жандармом». Искореняя грех, как он его понимал, монах был «придирчив и усерден точно тюремщик», заделывающий каждую отдушину, «сквозь которую виднеется хотя бы клочок голубого неба». А сейчас он «бесконечно ликовал», увидев Альбину, уходившую под ливнем, который так и хлестал ее… «Мне теперь веселья на педелю хватит».
Накануне, близ селения Арто, защищаясь от града камней, которыми Арканжиас осыпал Жанберна, философ сказал монаху: «Вот надоел, скотина!.. Неужели придется разбить тебе голову, чтобы убрать тебя с дороги?»
Аббат Муре, изгнавший Альбину из церковного дома, с недоумением прислушивался к себе: «Иногда в нем звучит чей-то посторонний, не его голос». И ужасался своей жестокости: «Разве он сам обошелся бы с ней так дурно? Нет, нет, то был не он…» Но он сам как решил бы этот спор, от которого зависела не только его жизнь?
Состояние полной внутренней ясности пришло к Сержу Муре в тот час, когда, после бурного ливня, вечернее солнце завладело церковью и внезапно сделало ее неузнаваемой. «Тысячи восковых свечей» не смогли бы потопить церковь в море такого ослепительного сияния, как это сделало солнце. За главным алтарем засверкали золотые ткани; потоки светящихся драгоценностей потекли по ступеням; в кадильницах запылали драгоценные камни; священные сосуды излучали волны света, подобного блеску комет… «Лучи повсюду струились дождем светоносных цветов». Никогда аббат Муре «не смел и грезить о подобной роскоши для бедной своей церкви».
В незнакомом удивительном храме, украшенном с царственной щедростью, в этот час он сам ощутил себя подобным божеству, внутренне свободным и сильным. «Никогда еще не видел он вещи в таком ослепительном свете». Озаренный всепроникающим светом, рассеявшим толпы призраков, он удивлялся, «что не понял этого сразу», не ушел с Альбиной, «как того требовал его долг». Он вернется за ней в Параду, и, если встретятся любопытные, он «одним движением заставит всех опустить голову». Теперь все казалось ему необычайно легким. И «бог не станет противиться, ибо он дозволяет любить. Но что ему бог?».
Это внутреннее освобождение Муре в преображенной церкви было столь полным и призраки отошли так далеко, что аббат «сделал тот широкий жест, которым Жанберна обводил горизонт в знак отрицания всего сущего». «Ничего, ничего, ничего нет, — произнес он. — Бога не существует». Ему почудилось, что стены дрогнули.
Вслед за состоянием пронзительной ясности наступила затемненность сознания. Но и в галлюцинациях Сержа Муре сохранилось главное из того, что он только сейчас открыл для себя. Он по-новому увидел из окна церковного дома спящее селение Арто. Кажется, готовилось гигантское сражение; все живые силы собрались двинуться на приступ церкви. «Пламенного языка этих сожженных земель» Муре никогда не слышал и не понимал. Но сейчас у него на глазах «холмы качнулись и загудели, как войско на марше»; поля, ударами заступа отвоеванные у скал, «потекли и забушевали»; хлеба, травы «выстраивались, как батальоны», вооруженные длинными копьями; взвихренные деревья «бежали, расправляя руки, точно бойцы, готовящиеся к сражению»; лавиной катились опавшие листья; «неслась в бой дорожная пыль…».
Великолепная фантазия, в которой антропоморфные образы, получив огромную силу обобщения, способствуют эмоциональному раскрытию идеи — Жизнь против Смерти, — придала «поэме в духе реальности» философскую глубину и подлинный драматизм.
По оглушительному сигналу к вторичному штурму ринулись полчища живых существ: все жители Арто, как «человеческий лес», подступали к храму и грозили завладеть нефом; мчались стада животных; летели тучи птиц — весь этот «прилив жизни», казалось, поглотил церковь, исчезнувшую «под бешеным натиском живых тел». В обвале стены Муре увидел, как «трудились все растения, вплоть до трав», разрушая фундамент церкви. Лаванда своими длинными крючковатыми пальцами хваталась за каждую расшатанную часть строения и «медленным долгим усилием отрывала прочь»; горный тимьян запускал свои корни, «словно железные клинья», в трещины; «упорные, непобедимые ростки» можжевельника, розмарина, остролиста подкапывались под церковь; ржавые лишайники разъедали стены; сухие травинки, проникнув под двери притвора, «затвердевали, словно стальные пики…». Налетевшим ураганом были «сметены в прах» исповедальня, образы святых, разбиты священные сосуды.
«У бога не было больше дома… Церковь была побеждена» — Сержа Муре охватила неистовая радость. Но видение, давшее ему столько никогда не испытанного счастья и торжества, исчезло при звуке голоса Дезире. Она вошла к брату с лампой в руке. «И священник увидел, что церковь цела и невредима».
Освобождение было кратким и оставалось только в иллюзии. Наяву Муре перестал желать его. Когда видения рассеялись, он испытал даже облегчение, точно у него «ампутировали наболевшую конечность». Болезнь духа и тела сказалась в оцепенении, которое отнимало даже «ощущение страдания»; в том, что «хилые руки» Сержа «точно сломались»; в том, что им овладела уверенность: «Я споткнусь о первый же камень». Он не был готов для жизни: не знал ее и боялся; роясь в памяти, находил там лишь обрывки молитв, подробности церковной службы, строчки из писаний отцов церкви…
«Я ничего не знаю, — сказал он Альбине, придя вновь в Параду. — Я поднимаю руки только для того, чтобы благословлять… Если я стану искать в себе сердце, я не найду его: я принес его в жертву богу…» Еще недавно, во время молитв «зубы его стучали от ужаса, а голос мятежной крови кричал, что все это — ложь». Но он был «взращен для бога», и в целом комплексе понятий, привычек, прочно внедрившихся в его жизнь, не оказалось ничего для человека. Подобно каменным статуям, что столетиями стоят в нишах храмов, Серж Муре был окурен церковными благовониями. «Ладан проник во все уголки моего тела», — признался он Альбине. От него и прозрачная ясность духа и «мир, вкушаемый мною оттого, что я не живу». Может быть, он и понимал жестокость своей судьбы, сказав богу: «Я — пустой дом, где ты можешь обитать».
Когда умерла Альбина, унеся с собой зарождающуюся новую жизнь, — задохнулась на ложе из всех цветов Параду, отравивших ее своим благоуханием, бог, воцарившись в «пустом доме», так властно заполнил его целиком, что у слуги не осталось места для чувств человеческих. Аббат Муре, словно облеченный в «непроницаемую броню», читал над могилой Альбины молитвы «отчетливо, не проглатывая ни единого слога», «пел твердо», голову держал «прямо» и смотрел на гроб «с ясным спокойствием».
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Реализм Эмиля Золя: «Ругон-Маккары» и проблемы реалистического искусства XIX в. во Франции"
Книги похожие на "Реализм Эмиля Золя: «Ругон-Маккары» и проблемы реалистического искусства XIX в. во Франции" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Елизавета Кучборская - Реализм Эмиля Золя: «Ругон-Маккары» и проблемы реалистического искусства XIX в. во Франции"
Отзывы читателей о книге "Реализм Эмиля Золя: «Ругон-Маккары» и проблемы реалистического искусства XIX в. во Франции", комментарии и мнения людей о произведении.