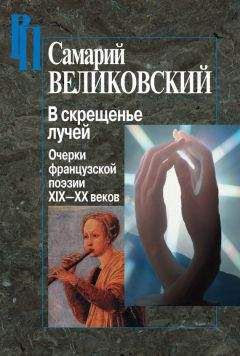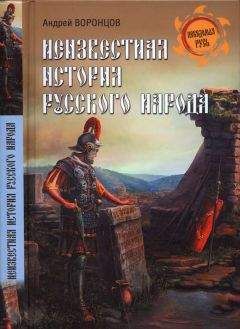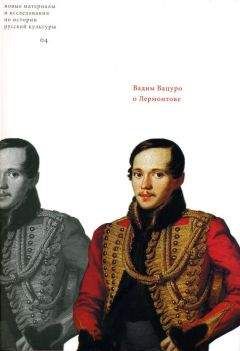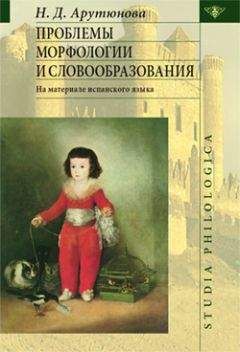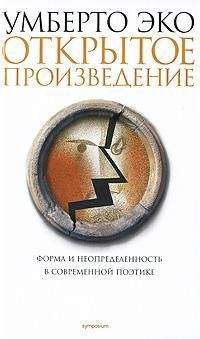Андрей Ранчин - Вертоград Златословный

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Вертоград Златословный"
Описание и краткое содержание "Вертоград Златословный" читать бесплатно онлайн.
Ранчин А. М. «Вертоград Златословный: Древнерусская книжность в интерпретациях, разборах и комментариях».
Включенные в книгу работы посвящены исследованию поэтики древнерусской словесности и историософских идей, выраженных в древнерусских памятниках и обусловивших особенности их структуры и стиля. Некоторые работы имеют полемический характер. Диапазон анализируемых произведений — от Повести временных лет и агиографии киевского периода до Жития протопопа Аввакума. Особенное внимание уделено памятникам Борисоглебского цикла, истории их создания и их художественным особенностям; жития святых Бориса и Глеба рассматриваются в сопоставлении с их славянскими, англосаксонскими и скандинавскими аналогами.
Здесь необходимо учитывать два момента. С одной стороны, это реальные обстоятельства погребения Глеба, а с другой — смысл известия древнерусского текста. Строго говоря, Е. Е. Голубинский доказывает (посредством рационалистических соображений, которые не обязательно должен был учитывать агиограф), что тело Глеба должно было быть погребено. Однако аргументы интерпретатора, подтверждающие, что именно об этом сообщает текст Сказания, не бесспорны. Глагол «поврещи», употребленный в тексте Несторова Чтения, и производное от него страдательное причастие прошедшего времени «повьрженыи», употребленное в тексте Сказания, возможно, все-таки употреблено в значении «оставить, покинуть». Например, составители «Словаря древнерусского языка (XI–XIV вв.)» определяют значение глагола «повергоша» в Чтении Нестора как «бросили, положили, оставили»: [Словарь древнерусского языка. Т. 6. С. 475–476].
166
Не исключено, что умерший не своей смертью Глеб мог рассматриваться, в соответствии с дохристианскими представлениями, как так называемый заложный покойник. Обычай не погребать самоубийц или насильственно лишенных жизни сохранялся на Руси на протяжении столетий; его обличал еще Максим Грек в XVI в. См.: [Гальковский 1916. С. 197–199].
О заложных покойниках см. также: [Зеленин 1995. С. 39–40, 88–97, 122–123]; [Зеленин 1917].
Ю. В. Кривошеев полагает, что события, зафиксированные в летописной повести об убиении Андрея Боголюбского (оставление незахороненного тела убитого на некоем «огороде» — в трактовке исследователя, в огороженном, может быть кольями, месте, а затем положение в притвор и нежелание хоронить князя), — свидетельства отношения к убитому правителю как к заложному покойнику. См.: [Кривошеев 2003. С. 118–131].
Если Глеб, насильственно лишенный жизни, также мог восприниматься как заложный покойник, вредоносный для живых, то, возможно, тело его было не погребено, а именно брошено между двумя колодами, которые в таком случае исполняли защитную, оберегающую от умершего, функцию.
Отношение к умершим неестественной смертью в народном сознании было двойственным. Нетление тела Глеба, упоминаемое в житиях, при восприятии убитого князя как заложного могло получать негативный смысл: по народным представлениям, оно могло свидетельствовать о том, что тело покойника не принимается землей. (См. об этих представлениях: [Зеленин 1991. С. 352]). Московский церковный собор 1667 г. (правда, кажется, в противоречии с более ранней господствовавшей традицией) указывал, что нетленными могут быть не только тела святых, но и тела отлученных и находящихся под архиерейскою и священническою «клятвою». (См. об этом: [Левин 2004. С. 165–166]).
Показательно отношение к убитому грозой отроку Артемию Веркольскому: «В 1577 г. дьякон церкви св. Николая обнаружил тело мальчика, который был убит молнией в 1544 г. и положен „на пусте месте, в лесе… вверх земли, не погребено, одале церкви“. Он увидел свет над тем местом, где лежало тело, и нашел его неповрежденным. Жители Верколы перевезли труп в деревню и сначала положили его в паперти местной церкви, на том месте, где отлученные от церкви и кающиеся грешники должны стоять во время богослужения. Такое положение выдавало сомнительный статус тела: еще следовало выяснить, был ли это чудотворец-святой или зловредный вампир». Позднее, когда сложилось почитание Артемия, он был захоронен как подобает святому; но гибель от молнии оставалась сомнительным моментом и для книжника, писавшего житие Артемия: в житии вместо этого сообщалось, что отрок умер от страха во время грозы. (См.: [Левин 2004. С. 168, 176]). Обстоятельства обретения тела отрока напоминают ситуацию обретения тела Глеба.
Корни такого отношения восходят, по-видимому, еще к дохристианской эпохе: «Прежде всего, не понятна двойственность отношения к заложным. С одной стороны, их ненавидят и боятся, с другой — их чтят, ублажают и ждут от них помощи. Почему их боятся, Зеленин объяснил (не дожили свой срок), но почему их чтят? Очевидно, за заложными изначально признавалась некая особая связь с божеством, придававшая им влиятельность и силу. <…> Само выражение „не своей смертью“ показывает, что преждевременная, неожиданная смерть воспринималась как результат специального вмешательства потусторонней и могущественной силы — богов: боги затребовали к себе данного человека, взяли его как жертву» [Клейн 2004. С. 265, ср. с. 272].
В христианизированном сознании отношение к некоторым группам умерших не своей смертью изменилось: «К позднейшему времени представление о „своей“/„не-своей“ смерти сильно эволюционировало. Внезапная и насильственная смерть любого рода уже не осмысляется как причина „хождения“. Некоторые виды „не-своей“ смерти приобретают противоположный статус „святой смерти“»; «[в]месте с детской смертью была переосмыслена и смерть от руки злодея: страдание без сопротивления приобретало ореол мученичества Христа ради — идея эта была усвоена народным сознанием из житий первых канонизированных русских святых, князей Бориса и Глеба. К такому христианскому представлению о безвинном страдании присоединяется традиционно славянский мотив „доли“ и „передачи“: „Самый грешный при ныхратной смерти отдаёт грехи убийце“» [Седакова 2004. С. 46–47].
Лес, в котором было оставлено (погребено?) тело Глеба, — одно из «нечистых» мест, в которых было принято погребать заложных покойников (см.: [Седакова 2004. С. 75]).
Впрочем, настаивать на том, что и Глеб, и Андрей Боголюбский могли восприниматься как заложные покойники, было бы очень рискованно. Погребальный обычай трупоположения — явление в славянском мире относительно новое: смена им прежнего трупосожжения примерно совпадает с началом христианизации. Между тем обычаи обращения с телами заложных соотнесены с трупоположением. «Даже если считать, что историческая смена одного типа захоронений другим не изменила коренным образом смысловой стороны обряда (действительно, ритуал сожжения легко вписывается в общую семантическую схему обряда как один из способов перехода из области жизни в область смерти), то отдельные стороны или элементы обряда должны были так или иначе изменить свою форму, функцию или мотивировку. Можно, в частности, предположить, что представления о „нечистых“ покойниках и способы их защиты от них в том виде, в каком мы их застаем в традиционной обрядности и фольклоре XIX–XX вв., сложились на основе этой новой формы захоронения (трупоположения), т. е. относительно поздно» [Толстая 2004. С. 10].
Напомню, что со времени начала «официальной» христианизации Руси до убиения Глеба прошло не более 25–26 лет.
Наиболее раннее свидетельство (впрочем, не детализированное) об особом обычае обращения с заложными содержится в Слове Пятом («О маловерьи») Серапиона Владимирского, составленном, по-видимому, в 1275 г.: «Ныне же гневъ Б[ож]ии видящи, и заповедаете: хто буде оудавленика или оутоплени(к) погреблъ, не погубите лю(д)ии сихъ, выгребите» [Громов, Мильков 2001. С. 554] (текст по списку: РНБ, Кир. — Бел., № 1081).
Правда, в этнографии и археологии есть мнение, что «[в] X в. в славянской среде Русской равнины наблюдаются существенные изменения в обрядности — на смену кремации умерших приходит обряд трупоположения. В настоящее время можно достаточно определенно утверждать, что этот процесс никак не связан с христианским ритуалом, а обусловлен какими-то трансформациями в языческом мировоззрении» [Седов 2005. С. 153]; ср., напр.: [Рыбаков 2001. С. 104–105]. Однако и в этом случае от начала длительного процесса замены кремации ингумацией до убиения Глеба прошел слишком незначительный период времени, чтобы умеренно говорить о существовании около 1015 года обряда обращения с телом «заложного» покойника, который известен нам в деталях по весьма поздним свидетельствам.
В Скандинавии (взаимное влияние скандинавской и славянской культурных традиций на Руси на рубеже X–XI вв. несомненно) языческий по своему происхождению обряд трупосожжения вытесняется христианизированным ритуалом ингумации только на протяжении XI в., хотя отдельные захоронения с трупоположением (например в Бирке) относятся к значительно более раннему времени. (См.: [Лебедев 2005. С. 400–401]). Об «оживающих мертвецах» в скандинавской традиции см., например [Картамышева 2003]; [Картамышева 2006а]; [Картамышева 2006б. С. 13–14].
Утверждение, что «не закапывать заложных покойников в землю» это «[о]чень древний и, несомненно, языческий обычай восточных славян» ([Зеленин 1991. С. 354, ср. с. 356]; ср.: [Клейн 2004. С. 271], представляется слишком смелым.
Б. А. Успенский обратил внимание на известие летописной повести о Борисе и Глебе в составе Летописца Переяславля Суздальского: «Убиену же Глебови и повержено на пусте месте межи двема клад[о]ма сосновыми, и привержен хврастом» [ПСРЛ Летописец Переяславля 1995. С. 50–51]. По интерпретации Б. А. Успенского, ссылающегося на исследование Д. К. Зеленина, «[з]ахоронение на дереве, языческое по своему происхождению, соответствует при этом способу захоронения „заложных“ покойников <…>. Равным образом и забрасывание тела хворостом (вместо погребения в земле) принято при захоронении таких покойников <…>. Как видим, при всем разнообразии описаний того, как именно был похоронен князь Глеб, все они сводятся к тому, что он был похоронен как „заложный“ покойник, т. е. именно так, как трактуется затем Святополк.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Вертоград Златословный"
Книги похожие на "Вертоград Златословный" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Андрей Ранчин - Вертоград Златословный"
Отзывы читателей о книге "Вертоград Златословный", комментарии и мнения людей о произведении.