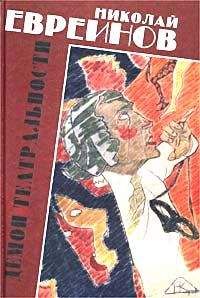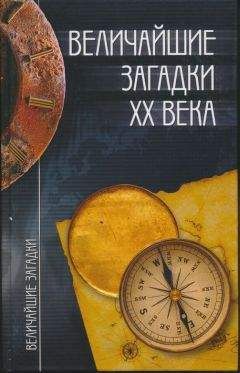Николай Богомолов - Вокруг «Серебряного века»

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Вокруг «Серебряного века»"
Описание и краткое содержание "Вокруг «Серебряного века»" читать бесплатно онлайн.
В новую книгу известного литературоведа Н. А. Богомолова, автора многочисленных исследований по истории отечественной словесности, вошли работы разных лет. Книга состоит из трех разделов. В первом рассмотрены некоторые общие проблемы изучения русской литературы конца XIX — начала XX веков, в него также включены воспоминания о М. Л. Гаспарове и В. Н. Топорове и статья о научном творчестве З. Г. Минц. Во втором, центральном разделе публикуются материалы по истории русского символизма и статьи, посвященные его деятелям, как чрезвычайно известным (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. Сологуб), так и остающимся в тени (Ю. К. Балтрушайтис, М. Н. Семенов, круг издательства «Гриф»). В третьем собраны работы о постсимволизме и авангарде с проекциями на историческую действительность 1950–1960-х годов.
Г.В.А. читает «Какой тяжелый, темный бред…» (Анненский).
Здесь не шепот, а громкий голос… Очень много работал над этим ст<ихотворе>нием. Инструментовка не бросается в глаза, но она есть: ты та ли, ты ли… Это уже не человеческий язык, какие-то непонятные отзвуки… Мука и музыка (му — му): то и другое Анненский в поэзии любил — он претворял муку в музыку. Конец громовой: «На черном бархате постели…» Краски А<нненско>го: черное, золотое, серебряное…
Третья беседа с Георгием Викторовичем Адамовичем Париж, июнь 1960 г.Акмеизм — понятие условное… Акмеистов было шесть…[1052] Младшие акмеисты — Г. Иванов, Н. Оцуп и я — не были настоящими акмеистами… Впрочем, Оцуп продолжал акмеистическую линию и в эмиграции.
Акмеизм не литературное явление, а жизнеощущение… Желание все испытать, веселое настроение. Мандельштам говорил: «Когда я весел, я акмеист…»
Г. Иванов и я никогда не считали Гумилева большим поэтом, но ценили его умение разбирать стихи. Есть врачи, кот<орые> ставят прекрасные диагнозы пациентам, но не самим себе… Так было и с Гумилевым, своих недостатков он не видел… Впрочем, недостатков у него было немного, но нет оживления в его поэзии[1053].
Мы условно считали себя его учениками, но, читая его сборники, — ими не были… Гумилев умел стихи строить, умел развивать тему…
Эмиграция не располагала к акмеистическому мажору, а скорее — к пересмотру прошлого.
Г. Иванову и мне в голову не приходило продолжать акмеизм в эмиграции. Т<ак> н<азываемая> парижская нота — стремление к простоте. Простоты хотели и З. Гиппиус, и Ходасевич. Настроение эмигр<антской> поэзии — аскетическое, враждебное мажору акмеизма. Было желание найти окончательные, последние, чудесные слова, кот<оры>х найти нельзя… Стремление к финальному чуду.
Г. Иванов ждал: что-то блеснет в жизни и все оправдает… Акмеизм последних слов не искал. Акмеизм — литературное приложение к прекрасной веселой жизни…
В эмиграции мы спрашивали: «Зачем мы здесь? Что делает человек на земле?» Это все было Гумилеву чуждо.
Н. Оцуп даровитый поэт. У него был культ Гумилева. Любил торжественность, велеречивость… Как В. Иванов…
У Г. Иванова ничего от гумилевской выучки.
Я дружил с Г. Ивановым лет тридцать пять… Он долго себя искал. Все уже в Петербурге признавали его талант, но не придавали ему значения. Это игрушечная поэзия. Фарфоровые чашки… Но всегда был у него безошибочный напев. Нет срывов, как у птицы, летящей рядом с аэропланом. Птица не упадет, как машина… Расцвет падает на посл<едние> пятнадцать лет его жизни. 0<н> от всего отрекся, все разлюбил. На обложке можно было бы изобразить тень человека, кот<орый> глядит на обломки… Не осталось литературы, книжности… Между чувством и словом нет различия…
У Г. Иванова — нигилизм, который взывает к Богу…
Упрек Г. Иванову: его стихи всегда приятные, хорошенькие. А сущность ужасная. Тут противоречие. Должен был бы ужасать, колоть, а не приятно звучать. Тут внутренний порок, он чего-то не решился договорить… В «Посмертном дневнике» — отсутствие литературности, книжности.
Об эмиграции: ей уже сорок лет. В чем ее значительность?
Алданов сказал при Бунине: «У нас все началось с лицейских стихов Пушкина и кончилось „Хаджи-Муратом“». Бунин поморщился, но потом согласился.
Поль Валери сказал: «Я знаю три чуда, trois miracles de monde: Афины, итальянский ренессанс и русская литература 19-го века»[1054].
Русская литература возникла из ничего… Конечно, были Державин и Сумароков, замечательный лирик, неоцененный…
После 19-го века русская литература надорвала свои силы… Чехов уже уступка, усталость. Послесловие к русской литературе — Блок…
Горький — его автобиография все-таки хорошая книга — или Бунин — уже не на уровне 19-го века.
К эмигрантской литературе несправедливы, это всегда так бывало, об этом говорил Томас Манн. Рассеянность по отношению к эмигрантам. Ничего особенно значительного она не дала, но и советская литература тоже.
В чем слабость зарубежной литературы: она очень уж варилась в собственном соку. Не наладила диалога с Россией.
Цветаева обращалась к России, также Шмелев. Бунин — вне этого, как и Зайцев, Алданов.
Оттуда доходили голоса — Олеши, иногда Каверина. Мог бы быть отклик, взаимное понимание. Говорю скомканно, а это тема серьезная…
«Доктор Живаго» как «Война и мир»… Не надо поминать «Войны и мира» всуе…
Что-то от эмигр<антской> литературы останется. Самый даровитый эмигрантский писатель — Набоков. Не люблю его, но это так… Загадка: как вообще мог он появиться в русской литературе. Словесная магия. Но пишет о мертвом мире, о мертвых существах… Как и Гоголь, тот же порок. Всегда издевается… Замятин по приезде во Францию на Набокова набросился.
Поэзия — это прежде всего Поплавский. Не дал всего, что мог бы дать. Изумительный собеседник. Но и что-то порочное в нем: темное, хитрое. В поэзии музыка слов, очарование. Тип Рембо, тип гуляки праздного…
Штейгер, Червинская, Чиннов или Варшавский, Яновский, Зуров, Газданов — о всех них Г.В.А. хорошего мнения, но отказывается о них говорить.
Федотов, Вейдле, Степун, Бердяев — это будущее достояние России. Там думают, что здесь только советоедство, которое когда-то было, но давно исчезло… Эмигр<антскую> философию культуры будут обсуждать, будет к этому интерес…
Критика: если спорил с Ходасевичем и Бемом, то уж, верно, считал себя правым, иначе не спорил бы…
Русская критика никогда не была на высоте русского творчества. У Ходасевича критика между прочим… У Белинского было критич<еское> чутье, но это младенческий лепет рядом с Гоголем, Толстым, Достоевским… Критики не было… Если бы Писарев не утонул, был бы он самым замечательным русским критиком. Нигилист Писарев рядился, как и позднее братья Бурлюки, в красный костюм. А яркая фигура есть костюм <?>. У Добролюбова серая словесная вязь.
Формалисты не критики, а ученые, отталкивались от «Символизма» Белого. До них было одно невежество, а в критике — болтовня Айхенвальда. Поэты такой болтовни не любят…
Конечно, была какая-то формальная критика у Пушкина, Боратынского, Брюсова, но все они шли дальше, давали общую оценку. Формализм — материал для литературной критики. Хорошие ученые.
ГВА читает свои стихи:
Когда мы в Россию вернемся…
Нет, ты не говори: поэзия — мечта…
Был дом, как пещера…
Что надо тебе…
Ты здесь <опять>… Неверная…
Где-нибудь на берегу реки…[1055]
Первый «Цех поэтов» кончился, кажется, в 1916 г. Во второй «Цех» вошли участники старого (Мандельштам, Лозинский, Г. Иванов) и новые члены (Рождественский, Оцуп, Адамович, Одоевцева, Нельдихен, Ходасевич приехал из Москвы[1057]). Собирались два раза в месяц в Доме Искусства. Разбор формальный, придирались к мелочам, говорили иногда резко, но все же дружелюбно. Потом пили чай, ели пирожные, но не ужинали (время было голодное).
Нельдихен писал свои стихи всерьез, но мы воспринимали их как юмористические…[1058] Мандельштам привез с юга новые стихи, кот<орые> вошли в его сборник «Tristia». Мы спорили, какие стихи лучше, — те ли, которые были в «Камне», или новые. Г. Иванов писал пародии. У Мандельштама: «Ну, а в комнате, белой, как прялка, стоит тишина…» А у Г. Иванова: «Ну, а в комнате, белой, как палка, стоит тишина…» О Лозинском: его ценили как переводчика. В искусстве перевода никто с ним состязаться не мог. Среди его оригинальных стихов И.В. выделяет следующее:
Проснулся от шороха мыши.
Увидел большое окно…
Гумилев говорил, что и у плохих поэтов попадаются хорошие стихи… Я впервые увидела Гумилева в 1919 г. на лекции в Институте Живого Слова. Длинный, тонкий, в дохе и оленьей шапке. Лекция была трудная, я ничего не поняла. Все обалдели… Потом Гумилев мне сказал, что он сам боялся этой своей лекции. Был он прекрасным учителем и позднее уже не запугивал ученостью…
Гумилев говорил: «Поэзия — наука. Я не могу из вас всех сделать поэтов, но я могу вас сделать критиками, развить ваш вкус…»
Сперва И. В. была в литературной секции Института Живого Слова, кот<орой> руководил Гумилев (были и две др<угие> секции — ораторская и театральная, более многочисленные). Как Гумилев объяснял размеры? Александр Блок — это хорей, Николай Гумилев — анапест, Марина Цветаева — амфибрахий… Заставлял нас переделывать, напр<имер>, хореи в ямбы. Но птичка Божия не знает… Или же давал нам рифмы из какого-н<и>б<удь> ст<ихотворе>ния, напр<имер>: обман, обуян, косоглазый, заразы…[1059] Одно ст<ихотворе>ние И. В. Гумилеву понравилось, и он перевел ее в студию. Но И.В. продолжала заниматься и в Институте Живого Слова, по 6 часов в день. Позднее, после успеха баллад, И.В. вошла и в «Цех». Но она не была в студии «Звучащая Раковина», где у Гумилева было много учеников, среди них поэт Н. Тихонов. Там же была и Н. Берберова[1060].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Вокруг «Серебряного века»"
Книги похожие на "Вокруг «Серебряного века»" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Николай Богомолов - Вокруг «Серебряного века»"
Отзывы читателей о книге "Вокруг «Серебряного века»", комментарии и мнения людей о произведении.