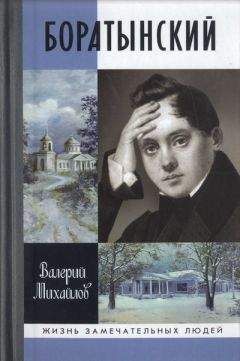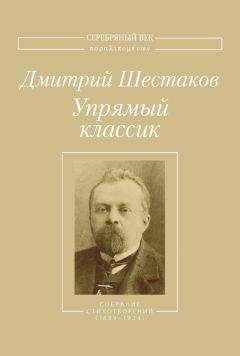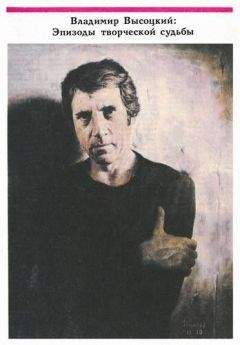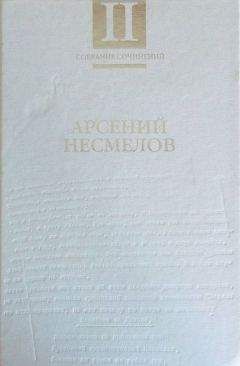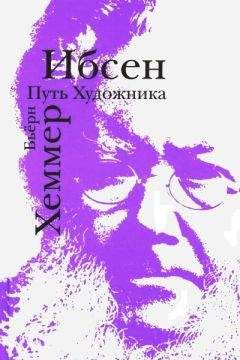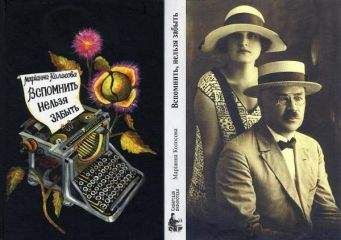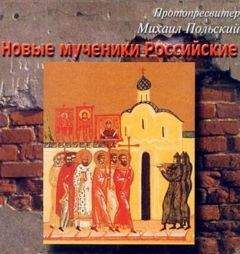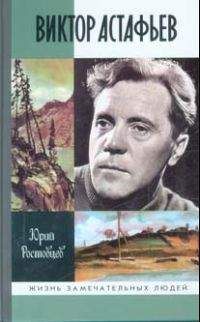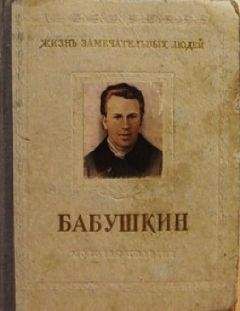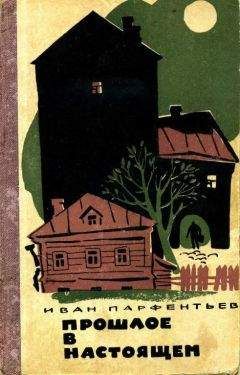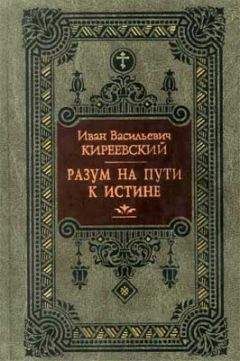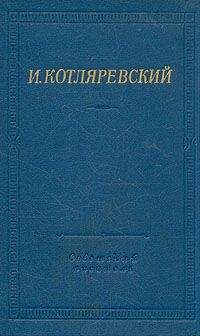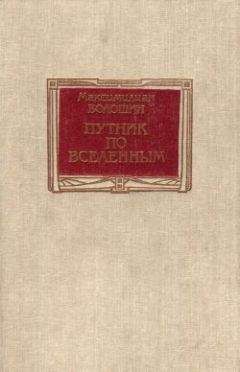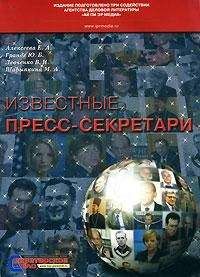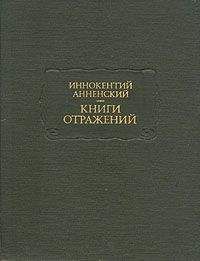Т. Толычова - Том 4. Материалы к биографиям. Восприятие и оценка личности и творчества

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Том 4. Материалы к биографиям. Восприятие и оценка личности и творчества"
Описание и краткое содержание "Том 4. Материалы к биографиям. Восприятие и оценка личности и творчества" читать бесплатно онлайн.
Полное собрание сочинений: В 4 т. Т. 4. Материалы к биографиям. Восприятие и оценка личности и творчества / Составление, примечания и комментарии А. Ф. Малышевского. — Калуга: Издательский педагогический центр «Гриф», 2006. — 656 с.
Издание полного собрания трудов, писем и биографических материалов И. В. Киреевского и П. В. Киреевского предпринимается впервые.
Иван Васильевич Киреевский (22 марта/3 апреля 1806 — 11/23 июня 1856) и Петр Васильевич Киреевский (11/23 февраля 1808 — 25 октября/6 ноября 1856) — выдающиеся русские мыслители, положившие начало самобытной отечественной философии, основанной на живой православной вере и опыте восточнохристианской аскетики.
В четвертый том входят материалы к биографиям И. В. Киреевского и П. В. Киреевского, работы, оценивающие их личность и творчество.
Все тексты приведены в соответствие с нормами современного литературного языка при сохранении их авторской стилистики.
Адресуется самому широкому кругу читателей, интересующихся историей отечественной духовной культуры.
Составление, примечания и комментарии А. Ф. Малышевского
Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России»
Note: для воспроизведения выделения размером шрифта в файле использованы стили.
Ближайшими сотрудниками журнала являлись в Москве Баратынский, Языков, Хомяков, в Петербурге Жуковский, князь Вяземский, А. И. Тургенев, князь Одоевский; Пушкин через Языкова выражал также свое живое сочувствие изданию Киреевского и обещал свое содействие и сотрудничество; вообще журналу Киреевского предстояла, по-видимому, прекрасная будущность. Но на второй книжке «Европеец» был запрещен. Поводом к тому явились статьи Киреевского «Девятнадцатый век» и «„Горе от ума“ — на московском театре». Распоряжение о запрещении было, по выражению Погодина, своего рода «исторической бумагой». В ней было сказано, что, вопреки заявлению Киреевского в его первой статье, что он говорит не о политике, «сочинитель, рассуждая будто бы о литературе, разумеет совсем иное: под словом просвещение он понимает свободу, деятельность разума означает у него революцию, а искусно отысканная середина не что иное, как конституция; статья сия не долженствовала быть дозволена в журнале литературном, в каковом запрещается помещать что-либо о политике, и вся статья, невзирая на ее нелепость, писана в духе самом неблагонамеренном». Статья о комедии Грибоедова была призвана непристойной выходкою против живущих в России иностранцев. Цензор, пропустивший первую книжку журнала, С. Т. Аксаков, был подвергнут служебному взысканию и вскоре отставлен от должности, Киреевский официально признан человеком неблагомыслящим и неблагонадежным, ему угрожало удаление из столицы, и он спасен был только горячим и энергическим заступничеством В. А. Жуковского. Между государем и Жуковским, по свидетельству А. П. Елагиной, произошла сцена, после которой поэт приостановил даже на две недели занятия с наследником-цесаревичем, думая вовсе удалиться от двора; вмешательство государыни положило конец размолвке.
Киреевский по поводу запрещения своего журнала подал записку графу Бенкендорфу с просьбою довести ее содержание до сведения государя (записка эта была написана, по просьбе Киреевского, другом его, Чаадаевым, знавшим близко графа Бенкендорфа, но мысли, в ней изложенные, разумеется, принадлежали Киреевскому). В этой записке Киреевский признавался, что некогда действительно разделял идеи своего поколения о преобразованиях для блага родины государственного управления в России, наподобие европейских, то есть о конституциях и т. п., хотя не искал преступным путем их осуществления, но теперь он пришел к убеждению, что, ввиду различия исторических условий Запада и России, европейская политическая теория не отвечает потребностям русского народа; теперь он желает для своей родины прежде всего распространения серьезного и здравого классического образования, затем освобождения крестьян, как «необходимого условия всякого последующего развития для нас, и особенно развития нравственного», и наконец пробуждения религиозного чувства, не понимая иной цивилизации, кроме христианской. «Считаю, — говорит Киреевский, развивая в частности свою мысль о крепостном праве, — что в настоящее время всякие изменения в законах, какие бы правительство ни предпринимало, останутся бесплодными до тех пор, пока мы будем находиться под влиянием впечатлений, оставляемых в наших умах зрелищем рабства, нас с детства окружающего: лишь его постепенное уничтожение может сделать нас способными воспользоваться другими преобразованиями, которые наши государи в своей мудрости найдут удобным сделать. Полагаю, что исполнение законов, как бы мудры они ни были, не может никогда быть соответственным намерению законодателя, если оно будет поручено людям, с молоком кормилицы впитавшим всевозможные мысли неравенства, если все ветви администрации будут вручены подданным, с колыбели своей освоенным со всякого рода несправедливостью». Что касается до своего журнала, Киреевский заявлял, что издание его должно было быть всецело литературным: издатель желал бы привить у нас вкус к философской литературе, установить связь не с политической, а с мыслящей Европой, показать, что «для нас нет иной политики, кроме науки», прояснить сознание о нашем общественном отношении к Европе. В заключении записки автор выражает надежду, что «его не будут считать среди суетных и бурных умов» и что ему позволено будет продолжать свое скромное дело.
Неизвестно, была ли доложена записка Киреевского государю, но пятно неблагонадежности тяготело над ним довольно долго и впоследствии. Литературу Киреевский считал своим призванием, в литературной деятельности видел святое служение на благо своего отечества и вдруг был сурово остановлен в самом начале избранного дела жизни. Он почти совсем перестал писать. В течение одиннадцати лет после запрещения «Европейца» им, кроме отрывков из двух неоконченных повестей — «Две жизни» и «Остров», была написана лишь в конце 1833 года, по просьбе А. П. Зонтаг, в виде письма в ней, небольшая статья «О русских писательницах» для альманаха, изданного кружком одесских дам с благотворительной целью, и статья «О стихотворениях Языкова», напечатанная в «Телескопе» без имени автора и в такой тайне, что даже ближайшим друзьям его, не исключая и самого Языкова, не было известно, кем она была написана. Герцен сказал, что жизнь Киреевского за это время напоминает зыбь моря над затонувшим кораблем… Но в душе Киреевского все это время несомненно совершалась живая, хотя и скрытая работа, внутренняя трудная борьба, подобная, может быть, той, какую пережил и сам Герцен…
Киреевский все это время много работал мыслию и сердцем в тяжелых сомнениях относительно самых заветных жизненных своих убеждений, в горьком сознании, что «светила прежние бледнеют, догорая, звезды лучшие срываются с небес», и когда через одиннадцать лет опять выступил на литературное поприще, образ мыслей его оказался существенно изменившимся. Большое влияние на него в этой внутренней работе сознания имел прежде всего его брат, Петр Васильевич, с самых ранних лет усвоивший себе глубокое непоколебимое убеждение в самобытности основ русской жизни и русского просвещения. С детства оба брата были связаны друг с другом самою горячею дружбою. Старший брат чуть не молился на младшего: «Понимать его, писал он однажды, — возвышает душу. Каждый поступок его, каждое слово в его письмах обнаруживает не твердость, не глубокость души, не возвышенность, не любовь, а прямо величие». «Такая одинаковость, — писал он в другой раз, — с такою теплотою сердца и с такою правдою в каждом поступке вряд ли вообразимы в другом человеке… Когда поймешь это все хорошенько да вспомнишь, что между тысячами миллионов именно его мне досталось звать братом, какая-то судорога сожмет и расширит сердце…»
Несмотря на такие отношения, между братьями в пору издания старшим из них «Европейца» не было одинаковости убеждений по вопросу о русской народной самобытности и основных началах русского просвещения; разногласие в таком жизненном для того и другого из них вопросов тяготило обоих и порождало между ними постоянные и горячие споры и страстный обмен мыслей, и в них взгляды старшего брата постепенно теряли свою прежнюю устойчивость и изменялись при соприкосновении с цельным, как бы прирожденным убеждением младшего. К этому присоединилось влияние Хомякова, с которым близко подружился И. В. Киреевский около того времени, когда так неожиданно прервалась его журнальная деятельность, и который, среди тогдашнего общества, в огромном большинстве считавшего русского мужика прямым дикарем, а православие отожествлявшего с невежеством, был горячим и убежденным поборником необходимости самобытного развития православия как основы этой самобытности, изучения старины и возвращения к ее заветам, поборником идеи о будущем мировом призвании России и славянства.
В 1834 году, в апреле, Киреевский женился на той, чьей руки тщетно добивался пять лет тому назад. Вскоре после свадьбы он познакомился с схимником Новоспасского монастыря, Филаретом, который внушил ему глубокое уважение к себе и беседы которого он очень полюбил; это тоже оставило своей след на образе мыслей Киреевского. Поводом для Киреевского впервые высказаться в духе назревших у него постепенно новых убеждений явилась статья Хомякова «О старом и новом», написанная автором для прочтения на одном из вечеров, бывавших у Киреевских в течение зимы 1839 г. и, как предполагают, с нарочною целью вызвать Киреевского на обмен мыслей. Хомяков в своей статье высказывает тот взгляд, что в Древней Руси, как и теперь, было «постоянное несогласие между законом и жизнью, между учреждениями писанными и живыми нравами народными» и что «наша древность представляет нам пример и начало всего доброго в жизни частной, в судопроизводстве, в отношении людей между собой, но все это было подавлено, уничтожено отсутствием государственного начала, раздорами внутренними, игом внешних врагов». Преобразовательная деятельность Петра была страшной, но благодельной грозой: с Петра «вещественная личность государства получает решительную деятельность, свободную от всякого внутреннего волнения, и в то же время бесстрастное и спокойное сознание души народной, сохраняя свои вечные права, развивается все более и более в удалении от всякого временного интереса и от пагубного влияния сухой практической внешности…» Теперь, когда эпоха создания государственного кончилась, настало для нас время подвигаться вперед, «занимая случайные открытия Запада, но придавая им смысл более глубокий или открывая в них те человеческие начала, которые для Запада остались тайнами, спрашивая у истории церкви и законов ее светил путеводительных для будущего нашего развития и воскрешая древние формы жизни русской…»
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Том 4. Материалы к биографиям. Восприятие и оценка личности и творчества"
Книги похожие на "Том 4. Материалы к биографиям. Восприятие и оценка личности и творчества" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Т. Толычова - Том 4. Материалы к биографиям. Восприятие и оценка личности и творчества"
Отзывы читателей о книге "Том 4. Материалы к биографиям. Восприятие и оценка личности и творчества", комментарии и мнения людей о произведении.