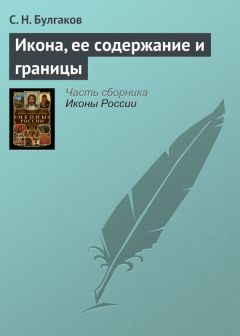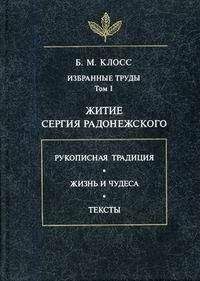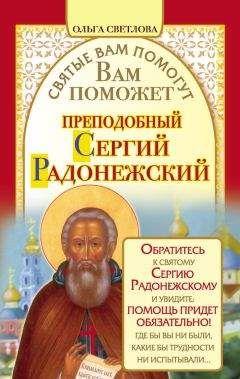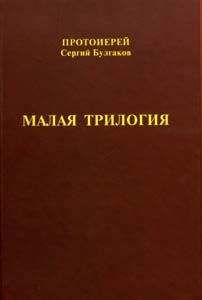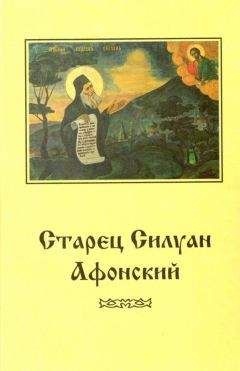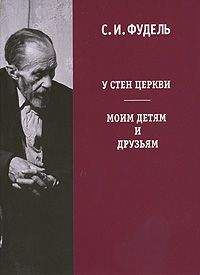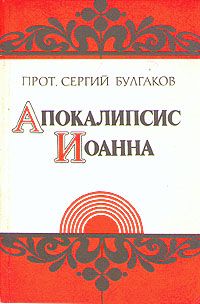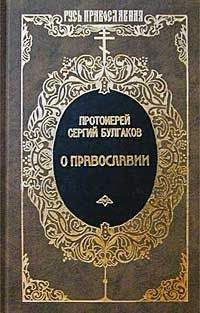Сергей Булгаков - Апокалипсис Иоанна
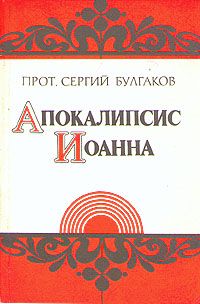
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Апокалипсис Иоанна"
Описание и краткое содержание "Апокалипсис Иоанна" читать бесплатно онлайн.
Книга об Апокалипсисе была последним трудом о.Сергия, который он успел закончить до своей смерти. Лекционный материал, посвященный автором Апокалипсису, был обработан им по многочисленным просьбам студентов Православного Богословского института.
Настоящий труд напечатан с первой рукописи; поэтому в ряде мест он носит характер записок и не чужд повторений и неточностей.
Само схождение Иерусалима в обоих случаях описывается почти в тех же словах: «святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба» (XXI, I), и «великий город святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога» (10). Оба текста, говорящие о небесном граде, сходящем с неба, очевидно, навеяны последними главами (XL-XLVIII) книги прор. Иезекииля. Они различаются между собой только одним словом, свойственным первому и отсутствующем во втором (как будто вопреки прямой последовательности чередования, в силу которой следовало бы их поставить в обратном порядке): это есть определение новый — одно только слово, однако таящее в себе глубочайший смысл пророчественный. Конечно, можно пройти и мимо него, не останавливая нарочитого внимания на этом слове. Однако в этом тексте исключительной пророчественной значительности, при его исключительной сжатости мы должны пророческим слухом услышать это слово, постигнуть богословие и метафизику его содержания. А это, кратко говоря, означает, что первое схождение Иерусалима — нового — относится к трансцензу, к жизни будущего века, из истории к эсхатологии.
Итак, оба схождения Иерусалима относятся к обожению или ософиению творения, однако первое к окончательному — когда «будет Бог вся во всех», второй же к земному его проявлению, еще в истории ранее конца. Для такого заключения кроме указанного различия текста, имеется еще ряд и других оснований. [107] Весь характер описания небесного Иерусалима во втором его схождении заставляет отнести его к состоянию мира до окончательного обожения и конца истории, а не после него, и потому соответствует известному ее периоду. Прежде частного анализа текста, суммируя его особенности, можно установить следующие наблюдения, которые заставляют отнести это схождение небесного Иерусалима к земной истории еще не преображенного мира, в котором, наряду с небесным Иерусалимом, хотя и вне его, существует зло со всеми его последствиями и проявлениями. Вот эти черты: 1) хотя в царстве нового Иерусалима ни болезни, ни смерти уже не будет, но в Иерусалиме, сходящем с неба на землю, остаются болезни, ибо «листья древа будут для исцеления народов» (XXII, 2), очевидно, еще возможного и нужного; 2) в отличие от царства нового Иерусалима, в котором не будет «ничего проклятого» (22-3) и будет «скиния Бога с человеками» (XXI, 3). Здесь, напротив, говорится о том, что «не войдет в него (в святый град) ничто нечистое и никто, преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни» (XXI, 27), хотя наряду с этим (спасенные) народы принесут в него славу и честь свою... и принесут в него «славу и честь народов» (XXI, 24, 26). Отсюда следует заключить, что история еще продолжается, как внутри, так и за пределами св. града. [108] Продолжается проповедь Евангелия, христианское просвещение «спасенных народов, ходящих в свете его», т. е. «светильника», который будет «Агнец» (XXI, 23), согласно благовествованию Ангела, несущего печное Евангелие (XIV, 6-7), и обетованию песни Агнца (XV, 4); 3) все это заставляет сделать то общее заключение, что явление и откровение небесного Иерусалима совершается до конца мира и ранее Парусии Христовой, до всеобщего суда и воскресения, еще на грешной и не преображенной земле. Он является островом в океане греховного мира, или святым градом, окруженным стеною, в которую проникают лишь входящие чрез врата, за пределами же его остается греховная жизнь мира. Если соединить все эти образы с содержанием гл. XX-ой о первом воскресении и временной связанностью сатаны, за которою, однако, последует, вслед за его освобождением, восстание народов Гога и Магога, «окруживших стан святых и город возлюбленный», то установляется такое соотношение между XX-ой и XXI-ой главами. В обеих их говорится об одном и том же, с тем только различием, что одни (как Charles) в содержании XXI-ой и XXII-ой глав усматривают не одно, но два схождения небесного Иерусалима, другие же их соединяют в одно (как Zahn), не останавливаясь перед всей трудностью соединить различные и даже противоположные черты, свойственные обоим описаниям. Вопрос о таком сближении обеих глав, конечно, не имеет прямого текстуального разрешения, и это отождествление, во всяком случае, остается лишь в качестве экзегетической гипотезы, однако имеющей для себя серьезные основания в тексте. Если оба видения о схождении на землю небесного Иерусалима имеют различное значение, отсюда проистекает, что одно из них, именно первое, относится к трансцендентной для нас теперь жизни будущего века, наступающей после преображения мира, второе же к его земной истории. В таком случае пред нами возникает такой вопрос: почему то, что относится к конечному свершению, в самом тексте предшествует тому, что принадлежит еще земной истории? Что означает этот обратный порядок изложения? Прямого ответа на этот вопрос у нас нет, если только не прибегать к произвольным реконструкциям и перестановкам текста, по обычаю рационалистической экзегезы. Этот порядок изложения действительно представляет загадку этих последних глав Откровения, хотя даже и он не может обессилить очевидного различия в содержании обоих отрывков. В тексте Откровения мы имеем такое последование: тысячелетнее царство (XX, 1-6) — восстание Гога и Магога (7-10) — конец мира, суд и приговор (11-15) — схождение с неба Нового Иерусалима, новое небо и земля в будущем веке (XXI, 1-7) — снова суд (8) — схождение Иерусалима на землю с описанием жизни в нем (XXI, 9, XXII, 1-2) — снова описание жизни будущего века под новым небом и новой землей (XXII, 3-6) — Эпилог (7-21). Изложение имеет характер перемежающийся и в этом своем чередовании непонятный. Конечно, вообще говоря, не совершенно исключена и известная порча текста, допускающая и, может быть, даже требующая реконструкции, соответственно изначальному внутреннему плану. Однако такая реконструкция остается все-таки произвольной и гипотетичной. Поэтому из пиетета к священному тексту мы берем его в такой последовательности, как он дан, хотя он и может возбуждать известное недоумение. Это внешнее ее как бы нестроение не сопровождается нарушением внутреннего смысла. В нем и надо искать общей руководящей мысли для его уразумения с установлением его внутренней последовательности отчасти даже вопреки внешней. Прежде всего, предмет этих глав, именно конец истории вместе с концом мира и его преображением, таков, что он, в сущности, и не допускает для себя точного последования, прагматического исторического изложения, он — метаисторичен и частью даже метакосмичен и метаэмепиричен. В нем соединяются в общей перспективе черты, относящиеся к разным историческим и метафизическим планам как бы в некоторой пестроте и амальгаме. Такой характер изложения, с отсутствием внешнего плана и даже некоторое его спутанностью при смешении разных планов, и вообще свойственный эсхатологическим пророчествам как Ветхого, так и Нового Завета, всегда затрудняет их экзегезу. Но такова здесь природа вещей, ибо не поддается земной ясности то, что доступное ей превышает. В особенности, это приходится сказать о малом Евангельском апокалипсисе (Мф. XXIV, 5 с параллелями), где заведомо соединяются в одном контексте частное историческое событие — конец Иерусалима, трагедия истории и Парусия. Приходится принять, что такая взволнованность пророчества является, так сказать, в его стиле. Тайнозритель в своем повествовании внешне соединяет и чередует черты, принадлежащие разным планам, но объединяемые общею темою конца: конца истории этого века и этого мира. Однако эта многочастность и многообразность изложения чередованием разных тем и планов не является противоречивостью, и это здесь самое главное. Между ними существует такое соотношение, в силу которого временное и ограниченное — именно последние события, относящиеся к окончанию земной истории, — входят как частность в более общие свершения в жизни этого и будущего века, а это общее покрывает собой и как бы поглощает частное, предшествующее и второстепенное — в переплетающемся изложении. Обе части глав XXI-ой и XXII-ой написаны поэтому, так сказать, разным эсхатологическим шрифтом (что допускает даже и внешнее их типографское различение). Можно так сказать, что тайнозритель сначала говорит о более общем и важном, именно последнем, чтобы от него обратиться к земной истории в путях ее, а затем заключает изложение снова «жизнью будущего века». И после этого погружения в грядущее он в эпилоге опять обращается к современности, т. е. к текущей истории, настоящей и будущей, с заключительными славословиями.
Теперь обратимся к анализу текста, относящегося к небесному Иерусалиму, сходящему на землю. Как уже сказано, верование в существование небесного Иерусалима, в определенный срок времен сходящего на землю, было свойственно иудаизму всей этой эпохи. Поэтому, в особенности под впечатлением Иезекиилева пророчества, естественно было облекать чаяния прядущего именно в эти образы. Вместе с тем, здесь так же, как и выше, конечно, невозможно буквальное понимание этих образов. Однако два образа небесного Иерусалима, сходящего с неба, мы должны, сближая их между собою, в то же время и существенно различить как принадлежащие один — эсхатологии, другой — метаистории (которую условно мы можем называть вместе с некоторыми толковниками и «тысячелетним царством» или хилиазмом). Это суть две разные категории метаистории: эсхатологическая и хилиастическая. Сближаются оба Иерусалима тем, что они «нисходят» с неба от Бога на землю (или, можно понять, к земному, историческому Иерусалиму, который образует собою центр мира и истории). Это схождение, которое, очевидно, не допускает для себя топографического понимания, но онтологическое, означает обожение, ософиение, преображение, прославление. Это есть творческое действие Божие, которое однако не оттеняет общего начала синергизма и совершается лишь при наступлении исторической и духовной к тому зрелости творения, в ответ на его чаяния и жажду и во взаимодействии с ним. Постольку оба схождения Иерусалима имеют тождественное или, во всяком случае, сродное, хотя и различающееся в степени значение. Именно последнее (а в порядке изложения — первое) схождение от Бога Иерусалима «нового» знаменует всю полноту ософиения, доступную и предназначенную для твари («приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. XXI, 2), в первом же этого не говорится, а просто лишь: «жену, невесту Агнца». [109] Далее о нем говорится: «великий город, святой Иерусалим, он имеет славу Божию». Само по себе это выражение может иметь разные оттенки значений. В высшем смысле Слава Божия есть сама Божественная София, явление Божества на горе Фаворской, свет Фаворский, откровение Третьей ипостаси, почиющей на Сыне «прежде бытия мира» и возврата» мой Ему чрез прославление от Отца (Ин. XVII, 5). Эта слава дается Сыном Своим ученикам (22) и вообще твари как прославление, обожение их; мы же все, «взирая на славу Божию, преображаемся в тот же образ от славы в славу как от Господня Духа» (2 Кор. III, 18). Такое именно прославление, с восхождением от славы в славу, следует здесь разуметь в применении к XXI, 11. Оно как обожение имеет разную меру и разные степени. Софийность Софии тварной, которая есть земной Иерусалим, раскрывается от славы в славу на земле, к «прежней», так и новой, между ними есть связь, но есть и расстояние. Схождение небесного Иерусалима на землю и в том и в другом случае означает прославление, осязание твари, мы должны установить и различие между ними. Остановим поэтому на тех чертах, в которых выражается это прославлен во втором случае сравнительно с первым. В этом первом и нет, и конечно, не может быть какого-либо, хотя бы и образного, описания трансцендентной для нас теперь жизни будущего века, здесь говорится лишь об общем обновлении, преображении обожении с устранением всякой скорби и зла (XXI, 3-6, XXII, 3-6). Напротив, во втором случае жизнь в небесном Иерусалиме описывается конкретными чертами, какова бы ни была эта конкретность. И прежде всего здесь описывается даже «слово Божия», т. е. прославленность Иерусалима: «светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису, кристалловидному» (11). Уже это одно не позволяет приравнивать эту земную светоносность небесному, софийному просвещению», оно относится еще к земной жизни. Далее этот ее характер выражается в целом ряде земных уже образов, которые имеют и аллегорически-мистическое значение, но прежде всего могут быть понимаемы и буквально. [110] И эта общая черта, свойственная всему описанию, заставляет отнести его к земной жизни и земной истории, хотя и в ее особой, исключительной, новой эпохе, — назовем ее условно — хилиастической. Однако здесь этот свет дает божественное озарение, есть откровение софийности. С одной стороны, подобие ясписа заставляет нас вспомнить о видении IV, 3, где богоявление также выражается в земных образах: «Сей, сидящий (на престоле) видом был подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола, видом подобная смарагду». Здесь эти сравнения из природного мира несомненно применяются и к миру божественному. Далее явление во славе Богочеловека также описывается в земных подобиях: «и преобразился пред ними; и просияло лицо Его как солнце, одежды же Его сделались белы как снег» (Мф. XVII, 2), «как на земле белильщик не может выбелить» (Мк. IX, 3). Подобное явление славы Господней осияло пастырей в явлении ангела Господня (Лк. II, 9) в ночь Рождества Христова. И, наконец, в Откр. XXI, 23 читаем снова: «и город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его Агнец» (23). Этот образ в своей парадоксальной массивности также говорит об откровении силы Божией чрез явления мира природного — свет духовный является и светильником. Это говорится еще не о полном преображении мира, но лишь о начале или известной степени преображения, проявляющегося в здешнем мире. Все это напрашивается на параллель с осиянием лица Моисея после явления ему славы Божией, которое, однако, также не было его полным преображением: Исх. XXXIV, 29-35. «Моисея не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. И увидели Моисея Аарон и все сыны Израилевы, и вот лицо его сияет, и боялись подойти к нему... и полагал Моисей на лицо свое покрывало». Подобным же массивным образом описывается явление славы Божией у Иезекииля (XLIII, 2, 5 сл.). Все это следует сопоставить также и с текстам Ис. LX, 19: «не будет уже солнце служить тебе светом дневным, и сияние луны светить тебе, но Господь будет тебе вечным светом и Бог славою твоею», и далее. Весь контекст этого места не позволяет уточнить, имеет ли он значение историческое или эсхатологическое, черты того и другого сливаются в общей перспективе, как это свойственно вообще ветхозаветному пророчеству.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Апокалипсис Иоанна"
Книги похожие на "Апокалипсис Иоанна" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Сергей Булгаков - Апокалипсис Иоанна"
Отзывы читателей о книге "Апокалипсис Иоанна", комментарии и мнения людей о произведении.