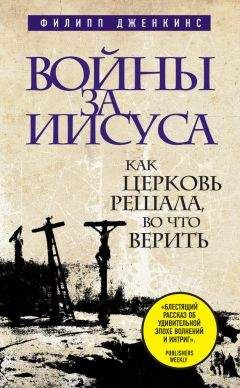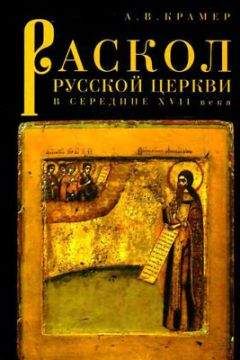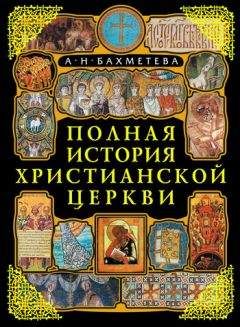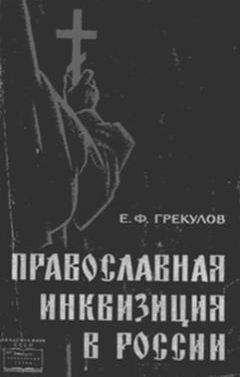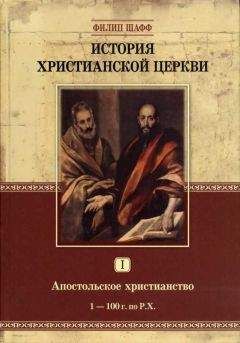Василий Болотов - Лекции по истории Древней Церкви. Том II

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Лекции по истории Древней Церкви. Том II"
Описание и краткое содержание "Лекции по истории Древней Церкви. Том II" читать бесплатно онлайн.
"Лекции по истории Древней Церкви, второй том. История церкви в период до Константина Великого" Василия Болотова, великого православного историка, умевшего совмещать научную объективность, верность Преданию и философский дар. В истории Болотов усматривал «голос церкви, рассеянный не только в пространстве, но и во времени,- голос ничем не заменимый, который всегда и повсюду составлял предмет веры для всех». Болотовские "Лекции по истории Древней Церкви" - блестящий труд, классика церковной историографии, возможно лучший по своей теме (хотя прошел уже век после их чтения). "Лекции по истории Древней Церкви. История церкви в период до Константина Великого" посвящены истории Церкви до Константина: борьба с язычеством в жизни и мысли; внутренняя жизнь Церкви - формирование догмата, обряда и дисциплины.
е) Сторонники римского воззрения ударяют на тот пункт, что в подобных вопросах, как крещение еретиков, не нужно обращать внимание на то, кто крестит, так как крещаемый принимает отпущение грехов сообразно с тем, во что он верует, аа) С этим Киприан никак не мог согласиться уже по изложенным выше (в, д) основаниям: он был убежден, что даже совершенное единство веры не спасает отступников от церкви, и не признавал тождества веры у еретиков и в церкви. Если еретики по вере получают, то получают лишь то, во что веруют, а так как веруют неправильно, то не могут получить и благодати. Для Ки–приана было несомненно, что ubi veritas, ibi gratia. А так как истина едина и она находится только в кафолической церкви, то и благодать должна быть едина, и именно та, которая находится в кафолической церкви. Другой благодати не может быть никакой, бб) Посредство священника в крещении Киприан признает настолько существенным, настолько неизбежным условием самого крещения, что для него было далеко не безразлично, кто будет этим посредствующим. Как может, говорит он от имени собора 255 г., молиться за крещаемого sacerdos sacrile–gus et peccator, священник, нарушивший законы веры и грешник, когда написано: «Грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает» (Иоан. IX, 31)? Как может совершать духовное тот, кто сам лишился Св. Духа? Как может дать то, чего сам не имеет? Как может мертвый сам оживотворить другого? Совершенно необходимо потому, чтобы обращающийся в церковь был обновлен и освящен святыми, ибо написано: «Будьте святы, ибо Я свят Господь Бог ваш». Здесь Киприан вступает уже на скользкий путь субъективизма в своих воззрениях. Правда, он держится еще такого субъективизма, под которым лежит крепко объективная почва: свят для него тот, кто принадлежит к единой святой церкви, кто исповедует кафолическую веру. Но приводимые им основания бьют далее его наличной цели. Кто начинает толковать о грешном священнике, как о неспособном совершать иерархические действия, тот находится в серьезной опасности с почвы объективно–цер–ковно–догматической перейти на шаткое основание субъективно–личной нравственности. Нужно прибавить, что этими же словами Писания Киприан доказывал и то, что два епископа испанские (Martialis и Basilides), как libellatici, должны быть непременно лишены сана, потому что не могут молиться за свою паству и совершать для нее иерархические действия.
ж) Практический вывод из всех этих частных положений у Киприана звучит очень категорично: у врагов и антихристов нет ни крещения, ни благодати, потому что у них нет церкви; они то же, что язычники; приходящих из них в церковь нужно крестить как некрещеных. Этого пункта нужно держаться строго: поступиться здесь чем–нибудь значило бы, подобно Исаву, преступно отречься от прав своего церковного первородства. Римская практика показывает в христианах недостаток ревности о славе Божией. Такой толерантизм хуже еврейского закоснения, потому что об евреях апостол говорит, что они имеют ревность о Боге, но ревность не по разуму (Рим. X, 2); о христианах, держащихся римской практики, нельзя сказать даже и этого.
В полемике против римской практики Киприан ссылался на следующие места Священного Писания. Притч. IX, 19: «от воды чуждия ошайся, и от источника чуждаго не пий». Иер. XV, 18: «бысть мне яко вода лживая, не имущая верности». Сир. XXXIV, 25: «омываяйся от мертвеца, и паки прикасаяйся ему, кая польза ему от бани?» (Собственно в карфагенской церкви эти слова читались по–латыни таким образом: «Кто окрестится от мертвого, что пользы ему в этом омовении?» Qui bapti–zatur a mortuo, quid proficit lavatio ejus?) Пс. CXL, 5: «елей же грешного да не намастит главы моея». Ос. IX, 4: «требы их (или жертвоприношения) яко хлеб жалости им, ecu ядущии тыя осквернятся». Числ. XVI, 26: «отступите от кущ человек жестокосердых сих, и не прикоснитеся ко всем, елика суть им, да не погибнете купно во всем гресе их».
4. Раскол донатистов[31]
Раскол донатистов, который я связываю с предшествующим спором Киприана со Стефаном, представляет особый интерес. Он показывает, как опасны заблуждения гения. Малейшая ошибка, допущенная в гениальной аргументации, последовательно приводит иногда к розни, которой гений не предвидит, и к таким следствиям, что часто нужно бывает много усилий для исправления ошибки гения. Как ни блестящи воззрения Киприана, но в них была такая крайность, что нужен был гений Августина, чтобы нейтрализовать и обезвредить взгляды Киприана.
В Африке латинской, находившейся под управлением Мак–симиана, гонение было и должно было быть. Максимиан был такого жестокого характера, что Диоклетиану стоило намекнуть на что–либо жестокое, чтобы Максимиан с удовольствием взялся за это. Поэтому в Африке гонение поведено было круто, но, сильно разгоревшись, скоро погасло и не имело такого значения, как на востоке. Как только оно стало затихать, христиане стали принимать меры, чтобы не раздувать пожара. Во главе карфагенской церкви стоял тогда епископ Менсурий. Особенный колорит гонение в Африке получило потому преимущественно, что там обращали внимание на священные христианские книги и требовали их сожжения. Менсурий держался воззрений весьма умеренных, внушаемых пастырским благоразумием, и не считал нужным от ревностного стояния за Христа переходить в прямой вызов языческим гонителям, и употреблял все возможные для него меры, чтобы ослабить столкновение между христианами и языческою властию. Опасность выдачи священных книг он предотвратил тем, что положил в той базилике, в которой предполагалось произвести обыск, вместо священных книг еретические сочинения, чем языческие власти и удовлетворились и не сочли нужным вести дело далее, когда подмена была открыта. Менсурий предполагал, что многие африканские ригористы к этой мере отнесутся довольно неодобрительно. Поэтому он имел переписку по этому вопросу с Секундом ти–гизиским, представителем крайнего ригористического воззрения. В ответе Менсурию Секунд отнесся к его практике с довольно ясным порицанием. Он говорил, что не считает даже возможным делать подобные послабления, ссылаясь в оправдание своей строгости на пример Елеазара, который не только не хотел вкусить мяса запрещенного, но даже отказался от предложенного ему мяса, законом дозволенного, чтобы не подать повода думать, что он изменяет своей отеческой вере.
Отношение Менсурия к мученичеству вообще было таково, что могло навлечь на него только негодование неразумных ригористов. В то время сами языческие власти запада старались сколько возможно ограничить число христианских мучени–честв. Поэтому мучеников, призванных к этому подвигу течением неотвратимых обстоятельств, было если не мало, то, во всяком случае, и не так много, как было лиц в наличности взятых под стражу. Кроме мучеников по необходимости и, следовательно, по христианскому долгу, было довольно много фанатиков, которые сами своим заявлением о том, что они христиане и не исполнят эдикта, вызвали языческие власти на распоряжение взять их под стражу. Были люди и еще низшего разбора. Оказывается, что к исповедникам примкнули и некоторые проходимцы, считавшие возможным под видом страдания за Христа избавиться от необходимости платить по своим долговым обязательствам или рассчитывавшие по крайней мере некоторое время пожить в свое удовольствие в тюрьмах на счет христианской благотворительности или даже обогатиться из этого источника. Ввиду подобных мнимых ревнителей за имя Христово, Менсурий счел себя обязанным объявить, что лица, которые сами предадут себя языческой власти и будут казнены не за имя Христово, а потому, что навлекли на себя подобную казнь какими–нибудь другими обстоятельствами, не будут считаться карфагенскою церковью за мучеников. Это, разумеется, могло возбуждать только неудовольствие против епископа в среде тех, против кого эта мера направлялась. А так как опыт Киприана показывал, что исповедники могут производить и большое смущение в церковной дисциплине, то Менсурий счел себя обязанным быть на страже при сношениях между христианами и лицами, взятыми под стражу.
Ревностным помощником его был архидиакон Цецилиан. Позднейшие донатисты описывают того и другого в самых ужасающих красках. Под их пером Менсурий является более жестоким, чем сами палачи, а Цецилиан — его достойным помощником. Этот архидиакон будто бы поставил пред входом в темницы, где были заключены христиане, несколько людей, вооруженных ремнями и плетями. Эти стражи у лиц, приходивших навестить исповедников, отнимали пищу, которую они им приносили, и разбрасывали ее даже собакам. «Пред воротами тюрем лежали отцы и матери исповедников и вопияли к небу о мщении против тех, которые не позволяют даже издали взглянуть на детей своих и, таким образом, заставляют проводить у порога тюрьмы дни и бессонные ночи. Поднимался отовсюду громкий вопль и горький плач потому, что не дают обнять святых мучеников и не позволяют христианам совершать дела милосердия, так как свирепствует тиран и жестокий палач Цецилиан». Весьма вероятно, что во всем этом рассказе залючается какая–нибудь доля правды, тем более, что и по другим известиям Цецилиан представляется характером весьма решительным и способным на меры довольно крутые. Но в целом этот рассказ, несомненно, страдает сильнейшими преувеличениями.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Лекции по истории Древней Церкви. Том II"
Книги похожие на "Лекции по истории Древней Церкви. Том II" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Василий Болотов - Лекции по истории Древней Церкви. Том II"
Отзывы читателей о книге "Лекции по истории Древней Церкви. Том II", комментарии и мнения людей о произведении.