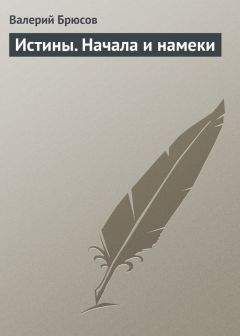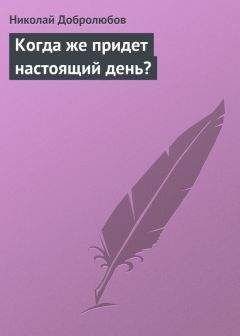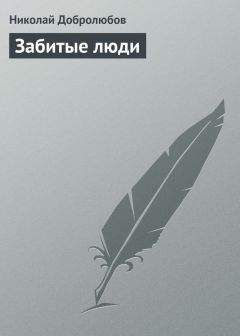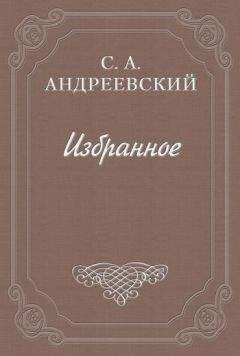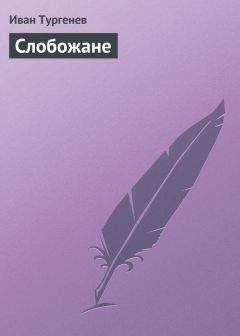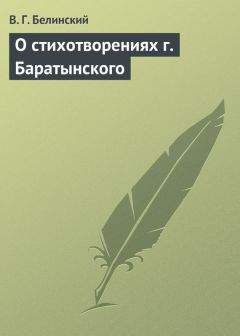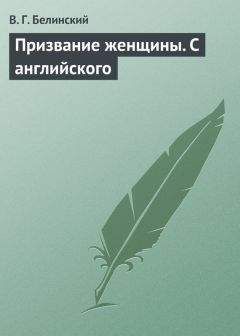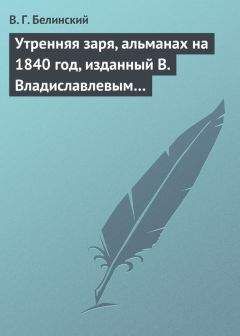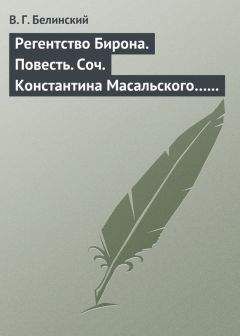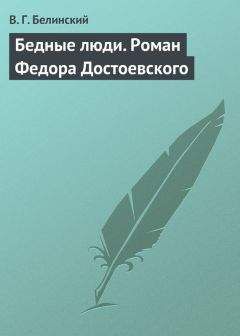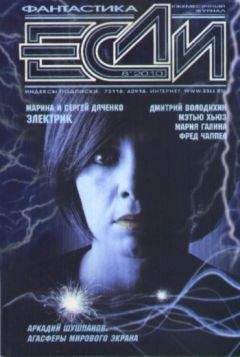Григорий Померанц - ОТКРЫТОСТЬ БЕЗДНЕ. ВСТРЕЧИ С ДОСТОЕВСКИМ
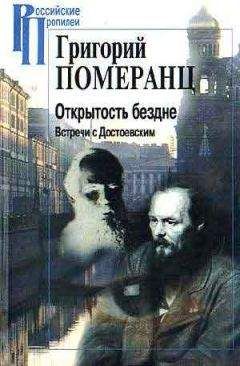
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "ОТКРЫТОСТЬ БЕЗДНЕ. ВСТРЕЧИ С ДОСТОЕВСКИМ"
Описание и краткое содержание "ОТКРЫТОСТЬ БЕЗДНЕ. ВСТРЕЧИ С ДОСТОЕВСКИМ" читать бесплатно онлайн.
Творчество Достоевского постигается в свете его исповедания веры: «Если бы как-нибудь оказалось... что Христос вне истины и истина вне Христа, то я предпочел бы остаться с Христом вне истины...» (вне любой философской и религиозной идеи, вне любого мировоззрения). Автор исследует, как этот внутренний свет пробивается сквозь «точки безумия» героя Достоевского, в колебаниях между «идеалом Мадонны» и «идеалом содомским», – и пытается понять внутренний строй единого ненаписанного романа («Жития великого грешника»), отражением которого были пять написанных великих романов, начиная с «Преступления и наказания». Полемические гиперболы Достоевского связываются со становлением его стиля. Прослеживается, как вспышки ксенофобии снимаются в порывах к всемирной отзывчивости, к планете без ненависти («Сон смешного человека»).
Творчество Достоевского постигается в свете его исповедания веры: «Если бы как-нибудь оказалось... что Христос вне истины и истина вне Христа, то я предпочел бы остаться с Христом вне истины...» (вне любой философской и религиозной идеи, вне любого мировоззрения). Автор исследует, как этот внутренний свет пробивается сквозь «точки безумия» героя Достоевского, в колебаниях между «идеалом Мадонны» и «идеалом содомским», – и пытается понять внутренний строй единого ненаписанного романа («Жития великого грешника»), отражением которого были пять написанных великих романов, начиная с «Преступления и наказания». Полемические гиперболы Достоевского связываются со становлением его стиля. Прослеживается, как вспышки ксенофобии снимаются в порывах к всемирной отзывчивости, к планете без ненависти («Сон смешного человека»).
Творчество Достоевского постигается в свете его исповедания веры: «Если бы как-нибудь оказалось... что Христос вне истины и истина вне Христа, то я предпочел бы остаться с Христом вне истины...» (вне любой философской и религиозной идеи, вне любого мировоззрения). Автор исследует, как этот внутренний свет пробивается сквозь «точки безумия» героя Достоевского, в колебаниях между «идеалом Мадонны» и «идеалом содомским», – и пытается понять внутренний строй единого ненаписанного романа («Жития великого грешника»), отражением которого были пять написанных великих романов, начиная с «Преступления и наказания». Полемические гиперболы Достоевского связываются со становлением его стиля. Прослеживается, как вспышки ксенофобии снимаются в порывах к всемирной отзывчивости, к планете без ненависти («Сон смешного человека»).
Начинается с депрессии, с невыносимой тоски, с ипохондрии, как Зосимов говорит о Раскольникове. Кругом все мерзко, невыносимо, гадко. Если лето – духота, пахнет тухлой олифой, вонь, вонь. Или поздняя осень, промозглая сырость, позеленевшие лица – и не хочется жить. Рука Смешного человека тянется к пистолету. У подпольного человека печень болит и разыгрывается истерика. Становится слышно, как скандалят друг с другом покойники на кладбище. И вдруг, в какой-то миг, луч с неба. Иногда всего один, но на всю жизнь; иногда – один за другим. В «Преступлении и наказании» потрясает, как к Раскольникову все время тянутся закатные лучи, любимые лучи Достоевского. Родион Романович, захваченный помыслом, бредет, не видя их, но бессознательно, периферийным зрением, видит. И вдруг, в какой-то миг, весь рвется навстречу свету.
Жизнь героя Достоевского как бы пульсирует: собирание сил, прыжок, падение... Как будто жизнь эта пытается взять некий барьер, вырваться из пут (в какой-то мере из социальных пут, но не только, далеко не только). Потом падает, лежит в изнеможении; где-то внутри опять собираются силы, – новый порыв и новое падение... Это своего рода болезнь. И что-то большее, более значительное, чем болезнь.
Спокойный внутренний свет, как в ангелах Троицы или в Спасе Рублева, не дается Достоевскому. Его старцы несколько стилизованы, и поучения Зосимы слабее, чем подлинные документы старчества. Иногда стилизованность чувствуется и в Алеше, по крайней мере в некоторых сценах. Иногда возникает впечатление, что в ответ на боль и крик мы слышим речи друзей Иова, что слишком четко ориентированные у врат рая герои отвечают на жизнь словами, взятыми из запаса памяти, следами истины. Только в точке безумия рождаются у Достоевского подлинные слова, неотделимые от горения сердца, от боли и крови живой плоти. Эти слова могут быть неловки, сбивчивы, неправильны, но они принадлежат другому уровню бытия, более глубокому, чем все слова-следы. Сущий (так называют Бога в Библии) отвечает сущему, тому, кто есть, кто вышел из инерции существования и в муках рождает новое бытие. В нем ребра разошлись, чтобы добросовестный свет-паучок заново начал работу сборки.
Точка безумия соответствует «лиминальному состоянию» в «Обрядах перехода» Ван Геннепа (1907)[80]. Это состояние совершенной утраты всех социальных характеристик, расплавленности всех стереотипов, абсолютной текучести, в которой предположительно действуют мистические силы, лепящие человека заново. До обряда перехода был ребенок, после – охотник и воин. До обряда перехода была девушка, после – жена. Иногда обряды имеют довольно сложный характер, и лиминальному состоянию предшествует встреча со страшными духами или прохождение через смерть (в этих случаях юношей, прошедших через обряд инициации, встречают как воскресших).
После обряда человек вливается в новую форму и застывает в ней. Здесь сходство между становлением индивида в племенном обществе и становлением личности в романе Достоевского исчерпывает себя. Герои Достоевского находятся в перманентном состоянии перехода. То, к чему они движутся, – это не новая внешняя форма, не новый стереотип (воина и охотника – в племенном быту; «деятеля» на языке подпольного человека). В идеале (достигнутом князем Мышкиным) это постоянная прозрачность для лучей света, которые действуют в «точке безумия»:
Чистых линий пучки благодатные,
Направляемы тонким лучом,
Соберутся, сойдутся когда-нибудь,
Словно гости с открытым челом...
Происходит развитие внутреннего чувства формы, чувства истины (в минуты озарения) и чувства фальши (при остром сознании ложности ложного шага, преступности преступления). Это внутреннее чувство, формируясь, приводит к прояснению нравственной интуиции, и опрозрачниванию всякой жизненной ситуации в зеркале собственной прозрачности. Наиболее полное осуществление – беседы Мышкина с первым встречным.
Однако одновременно идет и движение в противоположную сторону, и даже два таких движения, ведущие к тьме, к помрачению души: как у Мышкина и как у Ставрогина. Движение Мышкина к свету остается в предыстории, оно произошло в Швейцарии, и можно только угадывать, как все происходило. Несколькими черточками нарисовано, как он вглядывался в горы, в водопад и постепенно собирал свою душу. Но собственно роман – это история помрачения, разрывания на части души. Мышкин пытается принять в свою неокрепшую душу всю Россию и гибнет под грузом навалившихся на него душевных тяжестей. Его губят не свои, а чужие помыслы. Он видит и чувствует чужие помыслы так, как будто бы они вырастали в нем самом, и задыхается в атмосфере этих помыслов. Его точки безумия – столкновение с чужим помыслом, как в сцене встречи с Парфеном Рогожиным на лестнице. Мышкин кричит то, что должна была вскрикнуть душа самого Рогожина: «Не верю, Парфен, не верю!» Его потрясает не возможность погибнуть от ножа Рогожина, а возможность гибели души Рогожина от его темного помысла. Рогожин это чувствует и отступает. Но вокруг так много темных помыслов, что Мышкин, общая душа всех героев романа, не в состоянии опрозрачнить их тьму, и в конце концов эта тьма побеждает его прозрачность. Таков первый путь гибели. Сильно развитая личность отдает себя всю всем, и все рвут ее на части, как менады разорвали Орфея.
Второе движение в сторону гибели отчасти подобно первому, но только оно проходит внутри души, не воплощаясь в отношениях разных лиц (Мышкина с Рогожиным, Настасьей Филипповной, Аглаей и пр.). Здесь две драматические персоны, и обе духовные: помысел и душа.
Вторую персону этого действа мы примерно представляем себе. Каждый в себе чувствует душу, поэтому отсутствие и, может быть, невозможность строгого определения, что такое душа, не очень важны. Но что такое помысел? Попытаюсь определить его как текст, порабощающий своего создателя; мысль, оторвавшуюся от целостности душевной жизни и тянущую за собой душу по инерции, по касательной, в сторону от нее самой, от духовного центра души; от духовного солнца во тьму внешнюю. Сила помысла – это сила инерции интересной, эффектной мысли, это зацикленность на идее. «И неужели ты думаешь, что я, как дурак, пошел, очертя голову? – спрашивает Раскольников Соню. – Я пошел как умник, и это-то меня и сгубило».
Частная истина восстает против целостности, словом которой может быть только целостность личности, целомудрие (в широком смысле этого слова: цельная мудрость.
Впрочем, узкий смысл термина в психологии пола имеет то же содержание: цельность личности, не порабощенной полом в ущерб остальному, не отсутствие полового опыта, а свобода ума от порабощения воображаемым опытом).
Ум, захваченный помыслом, инерцией частных идей, зацикленный ум, теряет духовную широту. Логическая машина перестает подчиняться своему программисту и настаивает на превосходстве своих выводов над его интуитивными оценками. Примерно так теория Раскольникова порабощает Раскольникова. Дело не в том, какая это теория. Дело в том, что это теория и что она хочет диктовать законы жизни. «Еще хорошо, что вы старушонку только убили, – говорит Порфирий Петрович. – А выдумай вы другую теорию, так, пожалуй, еще и в сто миллионов раз безобразнее дело бы сделали». Как это происходит? Может ли помысел, созданный человеком, поработить его? По-моему, примерно так же, как машина поработила рабочего. Я по себе знаю, что становлюсь иным, беседуя с текстом исторического характера. Поэтому я в последние годы пишу параллельно две серии эссе, просто для того, чтобы не отождествить себя со своим созданием, чтобы сохранить внутреннюю свободу.
Повторяющийся в уме текст, безразлично, записан он или нет, есть такая же часть объективной реальности, как созданная человеком машина.
«Если под материальностью мира понимать его принадлежность к объективной реальности, – пишет Шаумян, – то материальным должен считаться не только физический, но и семиотический мир»[81]. Помысел – одно из явлений этого семиотического мира.
В патологических случаях он оживает, как гомункулус из колбы, и садится хозяину на шею. Иван доказывает черту, что генетически именно он, Иван, породил черта. Но это не меняет онтологического статуса черта. Черт остается для Ивана онтологически реальным[82].
Я пользуюсь терминами, в которых Шаумян рассуждает о грамматике, и вкладываю их в уста Ивана. Суть одна. Уничтожить черта Иван не может. Во всяком случае, это очень трудно, труднее, чем уничтожить физический объект. Было бы легче не создавать или не привлекать к себе черта, не выкармливать его. Но когда дело сделано, повернуть его обратно чрезвычайно трудно. Теоретические машины чрезвычайно легко приобретают власть над своими создателями и очень трудно отдают эту власть, даже если дело доходит до такого патологического случая, как в бреду Ивана Карамазова. Поэтому я считаю себя вправе рассматривать помысел как своего рода драматическую персону в действе «Помысел и душа».
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "ОТКРЫТОСТЬ БЕЗДНЕ. ВСТРЕЧИ С ДОСТОЕВСКИМ"
Книги похожие на "ОТКРЫТОСТЬ БЕЗДНЕ. ВСТРЕЧИ С ДОСТОЕВСКИМ" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Григорий Померанц - ОТКРЫТОСТЬ БЕЗДНЕ. ВСТРЕЧИ С ДОСТОЕВСКИМ"
Отзывы читателей о книге "ОТКРЫТОСТЬ БЕЗДНЕ. ВСТРЕЧИ С ДОСТОЕВСКИМ", комментарии и мнения людей о произведении.