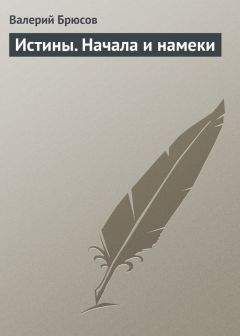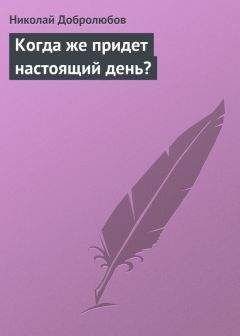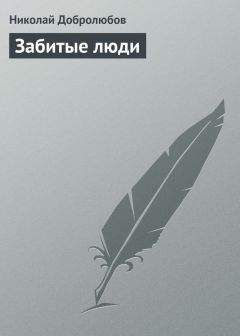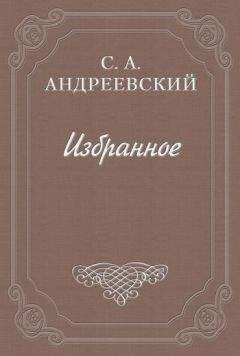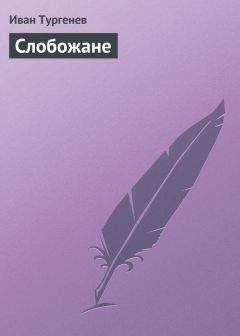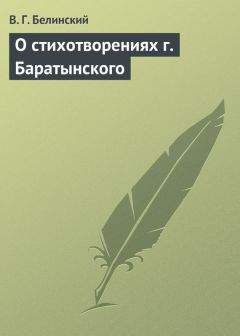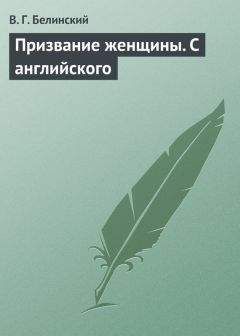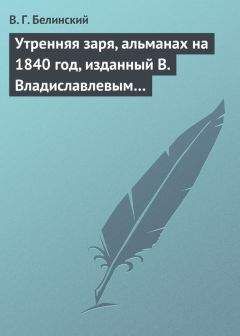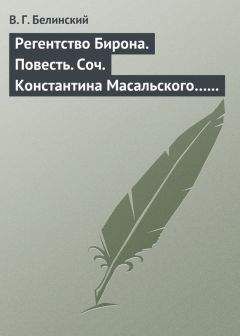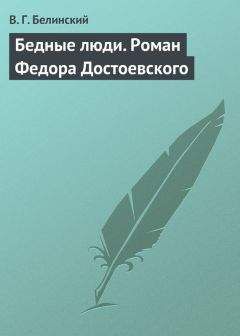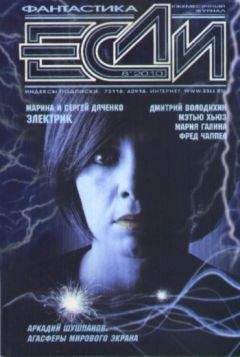Григорий Померанц - ОТКРЫТОСТЬ БЕЗДНЕ. ВСТРЕЧИ С ДОСТОЕВСКИМ
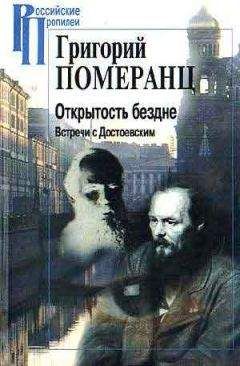
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "ОТКРЫТОСТЬ БЕЗДНЕ. ВСТРЕЧИ С ДОСТОЕВСКИМ"
Описание и краткое содержание "ОТКРЫТОСТЬ БЕЗДНЕ. ВСТРЕЧИ С ДОСТОЕВСКИМ" читать бесплатно онлайн.
Творчество Достоевского постигается в свете его исповедания веры: «Если бы как-нибудь оказалось... что Христос вне истины и истина вне Христа, то я предпочел бы остаться с Христом вне истины...» (вне любой философской и религиозной идеи, вне любого мировоззрения). Автор исследует, как этот внутренний свет пробивается сквозь «точки безумия» героя Достоевского, в колебаниях между «идеалом Мадонны» и «идеалом содомским», – и пытается понять внутренний строй единого ненаписанного романа («Жития великого грешника»), отражением которого были пять написанных великих романов, начиная с «Преступления и наказания». Полемические гиперболы Достоевского связываются со становлением его стиля. Прослеживается, как вспышки ксенофобии снимаются в порывах к всемирной отзывчивости, к планете без ненависти («Сон смешного человека»).
Творчество Достоевского постигается в свете его исповедания веры: «Если бы как-нибудь оказалось... что Христос вне истины и истина вне Христа, то я предпочел бы остаться с Христом вне истины...» (вне любой философской и религиозной идеи, вне любого мировоззрения). Автор исследует, как этот внутренний свет пробивается сквозь «точки безумия» героя Достоевского, в колебаниях между «идеалом Мадонны» и «идеалом содомским», – и пытается понять внутренний строй единого ненаписанного романа («Жития великого грешника»), отражением которого были пять написанных великих романов, начиная с «Преступления и наказания». Полемические гиперболы Достоевского связываются со становлением его стиля. Прослеживается, как вспышки ксенофобии снимаются в порывах к всемирной отзывчивости, к планете без ненависти («Сон смешного человека»).
Творчество Достоевского постигается в свете его исповедания веры: «Если бы как-нибудь оказалось... что Христос вне истины и истина вне Христа, то я предпочел бы остаться с Христом вне истины...» (вне любой философской и религиозной идеи, вне любого мировоззрения). Автор исследует, как этот внутренний свет пробивается сквозь «точки безумия» героя Достоевского, в колебаниях между «идеалом Мадонны» и «идеалом содомским», – и пытается понять внутренний строй единого ненаписанного романа («Жития великого грешника»), отражением которого были пять написанных великих романов, начиная с «Преступления и наказания». Полемические гиперболы Достоевского связываются со становлением его стиля. Прослеживается, как вспышки ксенофобии снимаются в порывах к всемирной отзывчивости, к планете без ненависти («Сон смешного человека»).
Без канонов, без обряда, без направляющей руки старца духовному человеку, ищущему освобождения от греха, очень трудно. Но пример Христа – это не пример послушания человеку. И Павел уподобился Ему, когда сказал: несть для меня ни эллина, ни иудея. Я прошу понять известную фразу не в обычном профаническом смысле, как отрицание кровных связей ради духовных, и не просто так, как получилось (новая церковь взамен старой, иудейской, которую Иисус никогда не отрицал и не велел отвергнуть).
Я прошу это понять, зачеркнув исторические последствия, в «чистом теперь», как это звучало в момент высказывания: несть для меня ни иудеев (принадлежащих к законной религиозной общине), ни язычников (не знающих закона). Всем по-своему трудно. Одним бороться с гордыней индивидуального ума и воли; другим – с гордыней коллективного разума.
Слова Петра о гордыне обрезанных вполне можно отнести сейчас к крещеным и сказать: кому-то из верующих должно быть в церкви, кому-то – во внешнем отдалении от нее, в любви ко всем общинам, дух которых – подлинно Святой Дух. Не существует ни одного канона для всех: духовное должно приходить свободно, изнутри, а не извне; по любви, а не по закону: хотя это вовсе не значит – против закона, и любовь может заставить принять закон.
Вот так Мышкин и живет, все время дожидаясь голоса изнутри и слыша этот голос. Мышкин прикоснулся к тайне, которую хранит церковь, без зримой церкви, а потом уже узнал церковь, и идет он не церковным путем, а как бы рядом с церковью. Так тоже можно. И в этом есть свое глубокое обаяние. Хотя это очень трудно.
Мышкин во всем такой. У него нет ничего затверженного. Он вдохновенно, по благодати находит правильное слово, правильный жест. Он не знает никаких приемов и без подсказки изнутри совершенно беспомощен. Он, может быть, даже молиться не умеет в обычном смысле слова, то есть с уровня греха, с просьбой о милости. И научить этому не может. Борис, герой «Группового портрета с дамой» Г. Бёлля, научил свою Лени молиться, а Мышкин никого ничему не научил. Он сам как-то обходился в Швейцарии. Там красота протягивала руку, и он эту руку брал. Этом у он пытается учить других (разве можно видеть дерево и не быть счастливым?), но они не понимают. Им надо прежде пробить груз греха, груз суеты, то есть им надо молиться молитвой мытаря, а у Мышкина совершенно нет этих интонаций...
Мы живем в суете; в лучшем случае, в суете дела. Но пусть даже в творческой суете. Всякая мысль и действие, не ведущие к Богу, – грех. Мы не умеем сохранять Бога (даже если иногда находим его). И поэтому живем в грехе, и вера наша почти всегда начинается с покаяния. Захваченность тем, что мы делаем, почти всегда доходит до рабства страсти и до предательства образа и подобия Божия. И поэтому мы не можем просто пойти за Мышкиным, как арестант в кандалах не может поплыть (хотя поплыть так просто! Так просто!).
Мышкин с другой планеты, а здесь, на Земле, действительно нужна была бы (и Настасье Филипповне, и Аглае) – моя корреспондентка по-своему права – хорошая церковь с ее испытанными приемами; историческая церковь со всеми ее недостатками (во многих случаях неважными), но бодрая и ревностная. К несчастью, бодрости и ревности русскому православию тоже не очень хватало, и оно не только к Настасье Филипповне и Рогожину не поспело и не предупредило убийства (Достоевский здесь реалист), но и во многих других, еще более важных случаях осталось вялым и как бы не дошедшим до сцены. Или, поспев, благословляло то, что уже без него решилось (несть власти, аще не от Бога)...
Это несколько не относится к делу, но не могу не вспомнить, что в 1914 году все церкви благословляли каждая свою национальную армию, то есть в конечном счете дьявола, развязавшего бойню, и все, что началось после нее, весь «настоящий двадцатый век». И сейчас многие церкви и другие общины верующих продолжают делать то же самое.
Маленькой Настасье Филипповне, наложнице Топкого, помогла бы и маленькая церковь, и в какой-то мере случай, что не помогла. Могла бы и помочь, если бы Настасье Филипповне встретился, скажем, о. Иоанн Кронштадтский. Но какая церковь поможет Деве-обиде, восставшей на всю нашу цивилизацию? Я этой церкви не вижу. А вижу только беспомощного князя Мышкина. И если сам Бог ему не поможет, то никто нам не поможет.
Мышкин не от церкви, а прямо от Бога, от ангельской красоты мира, вошедшей в больную душу и отразившейся в ней (может быть, именно благодаря молчанию разума) Божьим ликом. Скорее всего именно молчание разума помогло заре и водопаду в горах сделать свое дело. Ум ставил бы вопросы, называл бы и сравнивал; а «идиот» почувствовал, что делать ничего не надо, только не мешать заре что-то делать с собой. И она сделала. Я думаю, что Мышкина вылечил не Шнейдер, а покорность заре, состояние немысли (яп. «муга»), из которого родились толчки просветления («сатори»). Можно это выразить и в христианских терминах: духовная нищета облегчила приход благодати, еще «не усвоенной», не проникшей в каждую клетку тела и не утвердившейся в нем, но уже достаточно сильной, чтобы «иметь в душе свет и радость». По определению старца Силуана, такова третья ступень любви к Богу. Это как раз про Мышкина. Он остановился перед последней, четвертой ступенью, на которой «благодать в душе и теле» дает мученикам силу переносить страдания. Остановился – и ищет руки, которая помогла бы ему сделать последний шаг, неведомо куда, неведомо как, но чтобы больше не скользить, не спотыкаться, а прочно быт ь в своей «изначальной» природе, в Боге.
Мне кажется, на этом уровне термины не важны, разными языками говорится об одном и том же. Но я вспоминаю язык дзэн, потому что первый шаг – лечиться водопадом, вглядываться в брызги падающей воды до просветления – никаким другим языком лучше не выскажешь. Для дзэн – это канон, это так же заповедано, как христианину любить своих врагов. Мышкин, созерцающий водопад (или видящий дерево и не способный не быть счастливым), – канонический сюжет для дзэнга (живописи, отмеченной влиянием дзэн). Свиток, изображающий идиота (дзэнского юродивого) и струю падающей воды (образ Дао), мог бы принадлежать Ma Юаню или Сэссю и хранился бы в монастыре, как икона. А Рублев писал другое.
Как-то меня спросили: что такое русский дзэн? Букет ромашек? Я несколько дней не знал, что ответить, и вдруг почувствовал: князь Мышкин. То есть то, что на Дальнем Востоке выразилось как дзэн, в России ни в чем не выступило так полно, как в Мышкине. Если бы в православии возможны были секты и если бы Мышкин нашел учеников (и то и другое невероятно), то от князя пошел бы русский дзэн. А впрочем, может быть, абсолютная незаученность душевных движений и постоянное прислушивание к Святому Духу (и только к Нему, мимо всех канонов) – это и есть христианство самого Христа, «идея» православия, о которой писал Достоевский?
Мне хочется верить, что так оно и есть. Тут, впрочем, сразу возникают бесконечные споры о словах, и надо замолчать. Но в чем я уверен, что я ясно вижу, – это то, что Мышкина из невыносимой душевной тьмы вывел его водопад. Я почти увидел это на холодной ветреной заре, вспоминая недавно написанные рядом со мной стихи:
О, не бойтесь! В пустоте небес
Так спокойно дышится огню.
Я земной тоске в противовес
Горний просверк в души оброню.
И такая тихость разлита
Там, где свет дороги исследил!..
Не погубит душу красота,
А подхватит, точно пара крыл.
Вы крылаты! Тяжесть – это ложь,
Истина – в развернутом крыле.
Лишь за Мною до себя дойдешь.
Лишь сквозь небо подойдешь к земле.
Свет склонился к самому кресту.
Слышишь? Льется благовеста гул.
Я тебе такую красоту
Словно руку в бездну протянул!..
Когда князь Мышкин говорит, что красота мир спасет, он не рассуждает, не мечтает. Это неопровержимый личный опыт. Разумеется, совершенно неубедительный для остальных, для тех, кто не умеет так смотреть. Но он в самой глубине своей болезни принял руку, протянутую с неба, и эта рука день за днем вытягивала его и наконец вытянула. Не к тому, что называется нормой, – а мимо, мимо, прямо к порогу ослепительного чувства полного бытия...
Мышкину дана вспышка совершенного Единства с Чем-то (я не знаю, с чем, но я пишу это с большой буквы). Вспышка, похожая на те, которые столько раз описывали мистики. Один раз что-то подобное испытал Паскаль в течение двух часов[115] и назвал одним словом: огонь. Но огонь блаженный, огонь любви, от которого не откажешься, скорее – от жизни, если их нельзя совместить. Эротические метафоры приходят здесь в голову почти всем, так же как религиозные метафоры – в любви мужчины и женщины, достигшей полной (божественной) меры. Суфии почитали святыми любовные стихи язычников узритов, и еврейские книжники включили в Писание призыв Соломона: «ибо сильна, как смерть, любовь; свирепа, как ад, ревность...»
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "ОТКРЫТОСТЬ БЕЗДНЕ. ВСТРЕЧИ С ДОСТОЕВСКИМ"
Книги похожие на "ОТКРЫТОСТЬ БЕЗДНЕ. ВСТРЕЧИ С ДОСТОЕВСКИМ" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Григорий Померанц - ОТКРЫТОСТЬ БЕЗДНЕ. ВСТРЕЧИ С ДОСТОЕВСКИМ"
Отзывы читателей о книге "ОТКРЫТОСТЬ БЕЗДНЕ. ВСТРЕЧИ С ДОСТОЕВСКИМ", комментарии и мнения людей о произведении.