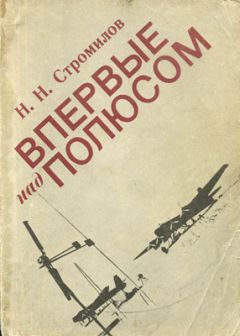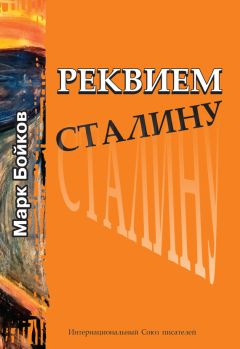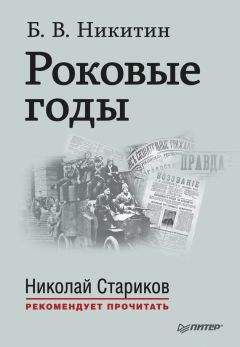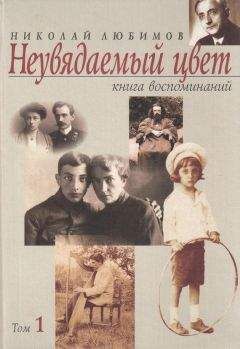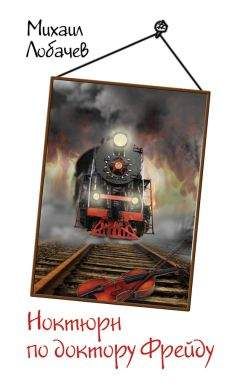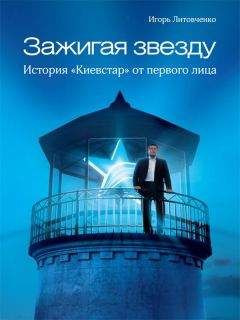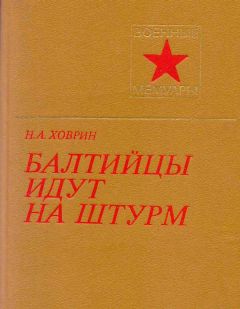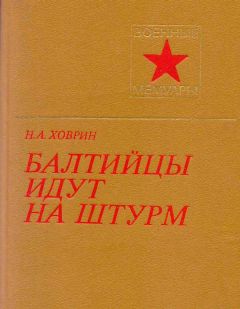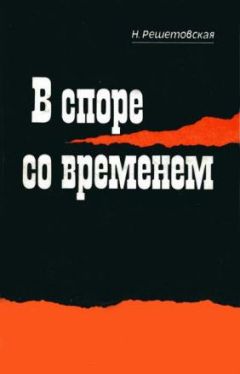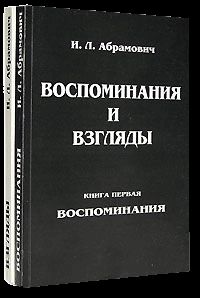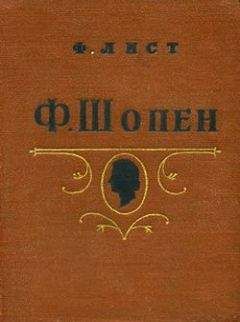Игорь Дьяконов - Книга воспоминаний

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Книга воспоминаний"
Описание и краткое содержание "Книга воспоминаний" читать бесплатно онлайн.
"Книга воспоминаний" известного русского востоковеда, ученого-историка, специалиста по шумерской, ассирийской и семитской культуре и языкам Игоря Михайловича Дьяконова вышла за четыре года до его смерти, последовавшей в 1999 году.
Книга написана, как можно судить из текста, в три приема. Незадолго до публикации (1995) автором дописана наиболее краткая – Последняя глава (ее объем всего 15 стр.), в которой приводится только беглый перечень послевоенных событий, – тогда как основные работы, собственно и сделавшие имя Дьяконова известным во всем мире, именно были осуществлены им в эти послевоенные десятилетия. Тут можно видеть определенный парадокс. Но можно и особый умысел автора. – Ведь эта его книга, в отличие от других, посвящена прежде всего ранним воспоминаниям, уходящему прошлому, которое и нуждается в воссоздании. Не заслуживает специального внимания в ней (или его достойно, но во вторую очередь) то, что и так уже получило какое-то отражение, например, в трудах ученого, в работах того научного сообщества, к которому Дьяконов безусловно принадлежит. На момент написания последней главы автор стоит на пороге восьмидесятилетия – эту главу он считает, по-видимому, наименее значимой в своей книге, – а сам принцип отбора фактов, тут обозначенный, как представляется, остается тем же:
“Эта глава написана через много лет после остальных и несколько иначе, чем они. Она содержит события моей жизни как ученого и члена русского общества; более личные моменты моей биографии – а среди них были и плачевные и радостные, сыгравшие большую роль в истории моей души, – почти все опущены, если они, кроме меня самого лично, касаются тех, кто еще был в живых, когда я писал эту последнюю главу”
Выражаем искреннюю благодарность за разрешение электронной публикаци — вдове И.М.Дьяконова Нине Яковлевне Дьяконовой и за помощь и консультации — Ольге Александровне Смирницкой.
II
Последние месяцы с весны 1940 по лето 1941 года мелькают в памяти — их подавляют последующие воспоминания. Просто перечислю события, очень кратко.
12 марта кончилась Финская война; в те же дни Нине удалось у проректора, Ю.И.Полянского, добиться перевода в университетскую аспирантуру.[229]
В конце апреля Нина рожала, — по настоянию Л.М. и по какому-то ходатайству — в Свердловской (правительственной) больнице. Она разбудила меня рано утром, я спросонка ничего не понял, потом бросился вызывать машину. Нина спокойно между схватками продолжала готовиться к аспирантскому экзамену. Я свез ее и поехал в Эрмитаж; с подъезда позвонил в родильный дом — родился мальчик, очень большой.
Нам с Ниной ясно было, что его зовут Мишей, в память моего папы.
Когда Нина вернулась из больницы, начались ужасные дни. В Свердловской больнице всех подряд заражали грудницей. У Нины температура сорок, мальчик кричал как зарезанный и не мог есть свою загноившуюся еду. Родичи Нины ходили из угла в угол, ломая руки, и вызывали врачей — один нехорош, другой, может быть, будет лучше. А не лучше, тогда третьего… Один говорит — резать, другой — ни в коем случае не резать, один говорит бинтовать, другой — не бинтовать. Нина лежит не кормленная, не ухоженная — а тем временем вышел страшный указ: за опоздание на службу свыше 21 минуты (не говоря уже — прогул) — под суд и в тюрьму.
Что было на улицах по утрам! Люди выбегали полуодетые, останавливали проезжавшие машины и даже мотоциклы.
Много было указов. Отменили пятидневку (нет — уже шестидневку), восстановили семидневную неделю. Запретили аборты (под суд и в тюрьму). Потом разделили школы на мужскую и женскую. Да всего не упомнишь.
По утрам я бегу с трамвая под арку и к Эрмитажу бегом. Кто из эрмитажников меня завидит — тоже бежит: известно, что я вбегаю в последний момент. Наконец-таки я опаздываю третий раз в месяц — Милица Эдвиновна пишет директору объяснительную записку, сообщая, что она посылала меня в библиотеку по своему поручению и забыла известить дирекцию. Милица Эдвиновна получает выговор, я не попадаю под суд. Но с Ниной сидеть тоже не могу, да и не знаю, с какого бока взяться за больную. Только по ночам я пою «Спи, младенец мой прекрасный» и «По синим волнам океана» вопящему крошке. Спасибо, появляется Ниночка Панаева, Нинина ученица с курсов, сверстница и теперь подруга. Она входит, выставляет всех за дверь и берется за уход и кормление. В несколько дней все приходит в норму.
Мы нанимаем какую-то дремучую няньку, которая живет с нами в одной комнате, за шкафом, повернутом ребром.
На лето мы уезжаем с Ниной Панаевой и ее мамой в Дубки — это место на Финском заливе, недалеко от Лисьего Носа — вместе с другой, много постарше ее Нининой ученицей с курсов, Марией Ивановной Русановой и ее мужем. У меня отпуск мал, я курсирую между Дубками и Ленинградом, В 1940 г. Б.Б.Пиотровский не пригласил меня на раскопки Кармир-блура. Не участвовал и Е.А.Байбуртян: его «взяли», и он больше не вернулся. Вместо него поехал И.М.Лурье.
В течение лета СССР оккупирует одну страну за другой: в начале июня — Бессарабию, принадлежавшую прежде царской России, но населенную в основном румынами (вследствие чего получаем военный союз диктатора Румынии Антонеску с Гитлером); Бессарабию присоединяют к Молдавской АССР (которую при этом урезывают, оставляя только ту часть, в которой действительно живут румыны + Кишинев), и делают Молдавской союзной республикой, а бессарабских и наших румын объявляют отдельной нацией молдаван. Заодно оккупируют половину Буковины, никогда не принадлежавшую царскому правительству, но населенную украинцами (и отчасти теми же румынами). Между серединой июня и началом августа проделываем акцию с Прибалтикой. Сначала мы представляем Литве, Латвии и Эстонии ультиматум о допущении на их территорию наших войск с целью защиты от возможного германского нападения (но, конечно, — негласно с ведома Германии); Гитлер дает приказ (или мы даем приказ? Не разберешь) всем прибалтийским немцам (а их очень много!) выселиться в Германию; мы начинаем волну арестов среди местного населения, затем инсценируем «единогласное избрание» в новые учредительные собрания, которые — единогласно же — просят Президиум Верховного Совета СССР принять эти республики в состав Союза. По всем присоединенным территориям проходит террор не хуже нашего 1937–38 года — если не того паче. Въезд на эти территории старым гражданам СССР запрещен, и переезды железнодорожные и шоссейные «на замке», как государственные границы.
Все же кое-кто туда попадал — по особым командировкам и с особого утверждения. Так, Александру Павловичу Рифтину удалось еще осенью 1939 г. съездить во Львов. Не знаю, какова была официальная цель его командировки, но он хотел попытаться найти Варшавского ассириолога-юри-ста Мозеса Шорра, автора важной книги по старовавилонским юридическим документам (а А.П. как раз выпустил книгу «Старовавилонские юридические и хозяйственные документы в собраниях СССР»). Но оказалось, что Шорр, хотя действительно бежал во Львов (он был, по совместительству, главным раввином Польши), был тут же арестован нашими как польский сенатор, и бесследно исчез.
Вероятно, осенью 1940 г. мы получили в Эрмитаже коллекцию Н.П.Лихачева. В связи с тем, что Мраморный дворец занимали под новый музей
Ленина, было произведено срочное перемещение академических институтов: археологов из Мраморного дворца поместили (вместе с каким-то институтом по точным наукам) на Дворцовой набережной 18, где до тех пор был Институт языка и мышления (бывший Яфетический); тот перевели в главное!здание Академии (с 1934 г. президиум был переведен в Москву, и там помещался, кажется, Институт истории); Институт истории перевели в помещение Института книги, документа и письма (коллекция Н.П.Лихачева), а ИКДП закрыли — саму же коллекцию разрознили: часть памятников, в том числе египтологическую, клинописную и пуническую коллекции и некоторые другие отдали Эрмитажу, рукописи — частью институту Востоковедения, частью, кажется, Публичной библиотеке. Все это делалось в невероятной спешке: с грузовиков, вывозивших археологов, сыпались книжки и кремневые неолитические наконечники стрел. Я принимал за неделю или две от ученого секретаря клинописную коллекцию — к счастью, она была в полном порядке: у Ю.Я.Перепслкина было все заинвентаризовано, что было получено им от Н.П.Лихачева: даже шарик от шахматной фигурки и тюбик из-под зубной пасты. Последний предвоенный год я разбирался с лихачевской коллекцией и заносил се — на этот раз очень кратко — в инвентарь.
А в остальном осень и зима 1940.41 гг. в моей памяти почти бесследно исчезла. Помню только, что в этот Новый год мы не встречались у Шуры Выгодского с нашими друзьями, не выпили тоста «за то, чтобы не было войны». И помню еще, что у меня была готовая работа — даже был читан доклад в Эрмитаже — о «военной демократии» в древней Месопотамии; она должна была быть положена в основу моей диссертации, но я считал, что с ней мне выступать рано — надо еще поработать.
Вот, кажется, все, что я помню про тот последний мирный год. Не очень мирный, но, во всяком случае, последний перед Великой войной.
Глава вторая (1941)
Если завтра война, если завтра в поход,
Если тёмные силы нагрянут,
Как один человек, весь советский народ
За великую Родину встанет.
Мы войны не хотим, но в войне победим,
Ведь к войне мы готовы недаром —
И на вражьей земле мы врага победим
Малой кровью, могучим ударом.
Популярная песня 30-х годов.I
22 июня 1941 г. было, как известно, воскресенье, все гуляли. Выпускники школ проводили белую ночь с 21 на 22-с на Неве и Островах, и утреннее, в И часов, сообщение Молотова всех застало врасплох. Так рассказывается в большинстве воспоминаний. Но наша компания войну, как сказано, ждала, хотя еще не сейчас, летом.
В отличие от всех людей, которые в то воскресенье отдыхали, я работал: Эрмитаж[230] выходной в понедельник, воскресенье было рабочим днем. Вход на нашу выставку и в наши кабинеты «Египта» (1-го отделения отдела Востока) тогда был отдельно, не с Большого подъезда, а прямо с площади, с Комендантского подъезда. Во всем отделении нас в тс дни было сначала трое, затем двое. Исидор Михайлович Лурье был вместе с Борисом Борисовичем Пиотровским на раскопках Кармир-блура, Михаил Абрамович Шер в штабе ПВО. Оставались Милица Эдвиновна Матьс, Ксения Сергеевна Ляпунова и я. Мы разместились на двух этажах отделения очень свободно и спокойно занимались своим делом.
Я уже упоминал, что с первой половины 30-х годов постоянно проводились военные учения. На улицах останавливали движение, какие-то люди ходили в противогазах, кого-то объявляли условно отравленными глазами и т. п. Иногда это было в общегородском масштабе, иногда в учрежденческом. Во всяком случае, Эрмитаж имел свой штаб противовоздушной обороны. Этот штаб установил вполне реальное дежурство на крыше. Там была будочка, и в ней мог находиться дежурный, Нередко это был наш милый, чудаковатый Михаил Абрамович Шср, всегда в синем фланелевом тренировочном костюме, с одной стороны у него висел противогаз, с другой — планшетка. Иногда он навешивал на себя еще и бинокль. Он почти всегда находился в ПВО. О нем рассказывали, что он то и дело звонил в штаб с сообщениями: «Над вторым домом по улице Гоголя виден дымок, по-видимому, из трубы». В это время особенно многих принудительно привлекали в ПВО из отделов, а Шер охотно шел сам, часто за других. Поэтому у нас он почти не сидел, забегал только за книгами.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Книга воспоминаний"
Книги похожие на "Книга воспоминаний" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Игорь Дьяконов - Книга воспоминаний"
Отзывы читателей о книге "Книга воспоминаний", комментарии и мнения людей о произведении.