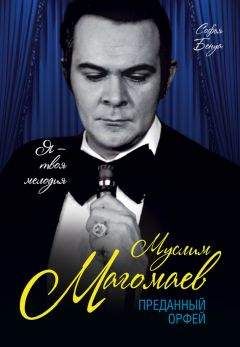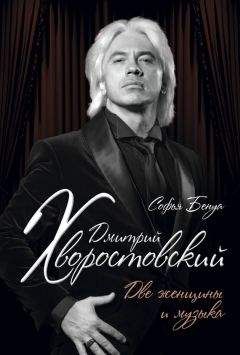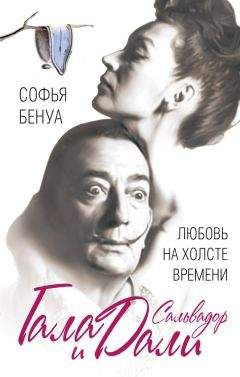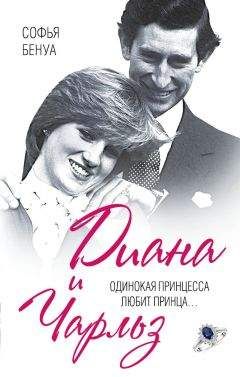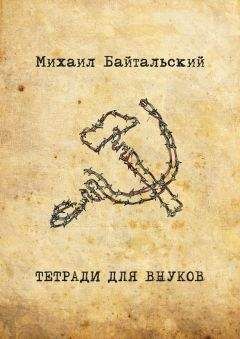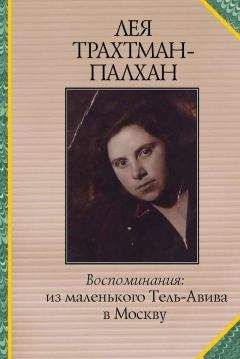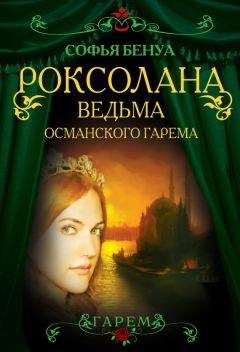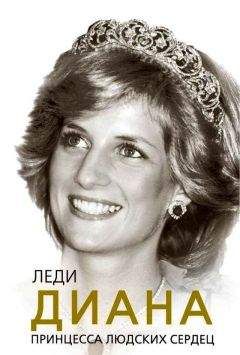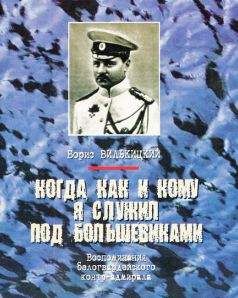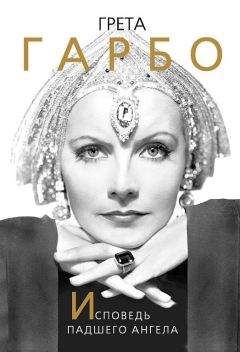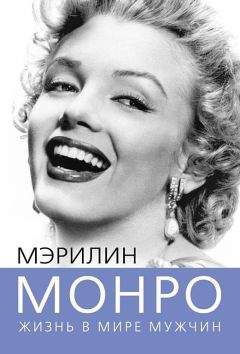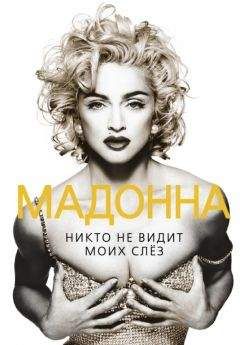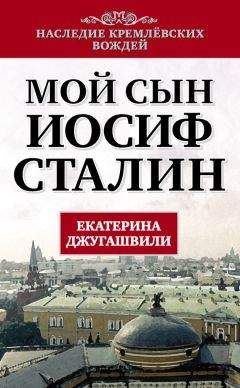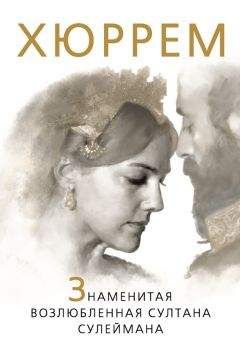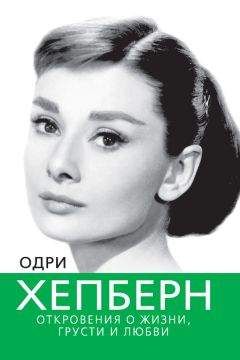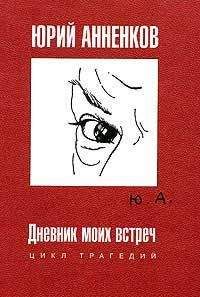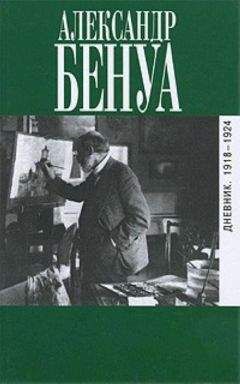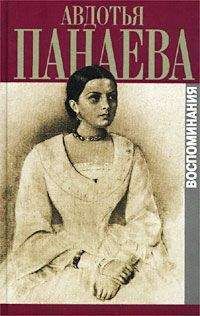Александр Бенуа - Мои воспоминания. Книга вторая

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Мои воспоминания. Книга вторая"
Описание и краткое содержание "Мои воспоминания. Книга вторая" читать бесплатно онлайн.
Воспоминания живописца, театрального декоратора, художественного критика и историка искусства Александра Николаевича Бенуа (1870–1960) являются настольной книгой для интеллигентного читателя. По мнению академика Д. С. Лихачева, автор учит любви к своей стране, к своему городу, к своей семье и ее традициям. К «Воспоминаниям» А. Н. Бенуа можно обращаться и за справками, и за знаниями, и просто ради душевного отдыха…
Впервые воспоминания А. Н. Бенуа под названием «Жизнь художника» были опубликованы в 1955 году на русском языке в двух томах в «Издательстве имени Чехова» в Нью-Йорке.
В 1960 и 1964 годах в Лондоне был издан двухтомный английский перевод мемуаров, который включал и новые главы.
Третье издание воспоминаний Бенуа, еще более полное и с примечаниями, появилось в 1980 году в Москве в академическом издательстве «Наука». И, наконец, в 1990 году «Наука» переиздала этот двухтомник, восстановив купюры, сделанные в 1980 году.
Здесь печатается полный текст, немного отредактированный для большей легкости чтения (в частности, иноязычные слова переведены прямо в тексте) и с соблюдением всех норм современной пунктуации и орфографии.
Еще более я был огорчен во Владимирском соборе своим другом Нестеровым. Его запрестольная картина, изображающая «Рождество Христово», выдает и ужасающий дурной вкус и нечто сладковато-дряблое, что художник пытается выдать за нежно-благоухающее. И это не была частичная неудача — это выдавало в Нестерове нечто непреодолимое, что расцвело затем махровым цветом в его церковных картинах для церкви в Абастумане. В них Нестеров проявил уже настоящее художественное ханжество. До этого момента я был склонен, закрывая глаза на многое, что мне претило, ждать от него какого-то исправления, какого-то поворота к тому, что когда-то составляло прелесть его первых выступлений, его «Видения отрока Варфоломея» и «Св. Сергия в лесной пустыне». Однако после того, что я увидал это «Рождество», я понял, что Нестеров безвозвратно потерян для подлинного искусства. Этот человек таил многое весьма значительное, однако не то заботы суетного света, не то какой-то изъян в его духовном существе, не то помянутые общие условия культуры задушили в нем эти благие семена, и личность религиозного живописца Нестерова осталась каким-то печальным недоразумением. Впрочем, под конец жизни, когда в России водворилась власть, вообще чуждая религии, религиозные измышления Нестерова оказались ни к чему не применимыми, он лучше нашел себя в писании портретов, некоторые из них отличаются довольно сильной характеристикой.
Во многих смыслах и художественной личности Врубеля грозит подобная же переоценка. По крайней мере, я так думаю теперь, тогда как в течение нескольких лет я был убежден, что Врубель действительно гениальный художник. Спрашивается, однако, было ли то мое суждение вполне свободным или оно зависело от разных влияний и больше всего от собственного желания в эту гениальность Врубеля поверить. Проверяя после стольких лет свои тогдашние убеждения, мне кажется, что я не был свободен от посторонних влияний, и больше всего действовало то внушение, которому я подвергся со стороны моего друга Яремича. Вот кто был искренним и безусловным поклонником Врубеля, и это до такой степени, что он заражал своим увлечением и других. Действовало при этом то, что Яремич лично хорошо знал Врубеля, так как жил в постоянном и близком общении с ним в Киеве, где он ему и помогал при орнаментальной росписи стен и сводов Владимирского собора. Из рассказов Степана Петровича я начал было познавать Врубеля, точно и я с ним состоял в близких отношениях. Я узнал всю его подноготную, все, что в его существовании было печального, романтического, а в нем самом демонического. Я через Яремича полюбил Врубеля и как человека, а это отозвалось на моем приятии его в душу как художника. Постепенно, однако, это наваждение стало затем (уже после безвременной кончины впавшего в безумие художника) рассеиваться, и теперь у меня к Врубелю как к человеку если и осталось чувство большой нежности, пропитанное жалостью, если я и признаю, что это был один из самых действительно одаренных натур конца XIX века, то все же я должен признаться, что мое отношение к нему было когда-то преувеличенным, что гениальный по своим возможностям художник оставил по себе творение в целом фрагментарное, раздробленное и по существу такое, которое гениальным назвать нельзя. Крупицы «божественности» приходится в нем выискивать с трудом, отметая черты и вовсе недостойные, нелепые, моментами даже безвкусные и тривиальные.
Однако я забежал вперед, теперь же надо вернуться к осени 1899 года и к моему пребыванию в Киеве, отмеченному, кстати сказать, совершенно райской погодой, удивительной ясностью и теплом, при полном отсутствии гнетущего зноя. Бродя пешком и разъезжая в такой дивной атмосфере по Киеву, я испытывал целыми днями такой силы блаженство, что во мне даже забродили мечты, не перебраться ли нам всей семьей в Киев.
В последний из таких райских дней я побывал и в лежащем на окраине города Кирилловском монастыре, специально для того, чтоб ознакомиться в нем с работами Врубеля. Посвятил я этому обозрению часа три и если и не покинул собор в состоянии какого-то восторга, то все же я был поражен тем, с каким мастерством написаны очень своеобразные местные образа в иконостасе (и особенно изображенная сидящей с младенцем на руках Богородица) и с каким, я бы сказал, вдохновенным остроумием он же реставрировал древние фрески византийского характера, а местами заново сделал к ним добавления (иные из этих добавлений прямо принадлежат целиком кисти Врубеля). Всюду пиетет к старине гармонично сочетается с порывами творчества свободной фантазии.
ГЛАВА 34
Училище барона Штиглица. Яремич. Протейкинский
Во время моего отсутствия наша новая квартира была приведена в полный порядок, и я смог уже ощутить ее как действительно «мой дом». Жизнь потекла безмятежно и на первых порах не обремененная теми насущными материальными заботами, которые периодически так меня мучили в дальнейшем. Хоть мы и дали себе слово обращаться с полученными по наследству деньгами с величайшей бережливостью, все же приходилось затрагивать капитал, так как проценты с него были недостаточны даже для нашего очень скромного бюджета, однако сознание того, что довольно значительный запас все же имеется, действовал успокаивающим образом. Что же касается других заработков, то намечалась служба в Художественном училище барона Штиглица, куда я был приглашен в качестве преподавателя по истории стилей, но по условию с директором училища, архитектором Г. И. Котовым, я должен был приступить к своим лекциям только с нового года, так как мне нужно было основательно к ним подготовиться. К этой подготовке я (параллельно с моим изучением прошлого русской живописи) теперь и приступил. Впрочем, надо прибавить, что в смысле заработка эта служба не обещала мне дать обеспечения — жалованье было совершенно ничтожное, и согласился я на приглашение Котова только для того, чтобы как-либо заявить о себе. На заработок же чисто художественный можно было рассчитывать только в момент выставки, а до этого было далеко.
Через несколько недель после нашего водворения в Петербурге явился без предупреждения тот киевлянин — С. П. Яремич, к которому меня направил Врубель. Оказалось, что в моем посещении Киева и в том факте, что я его там искал и не нашел, он увидел нечто вроде перста судьбы — ему-де не следует дальше откладывать свою поездку в Петербург, о чем он уже давно мечтал. Вот он и явился, да чуть ли не прямо с вокзала — ко мне. Будь это другой человек, я, вероятно, испугался бы такой стремительности, я бы заподозрил, что меня этот незнакомец собирается использовать для своих, Бог знает каких, целей. Однако один вид Степана Петровича и вся его манера сразу так меня расположила к нему, что я его принял с исключительным радушием, сразу почувствовав в нем единомышленника или единодушника.
Что касается наружности Яремича, то перед нами предстал довольно высокий, несколько худощавый человек лет двадцати пяти, не более, рыжеватый блондин, с головой на шее несколько преувеличенной длины, с остриженной клинышком бородкой и с удивительно розовенькими, совершенно младенческими щечками. Он чуть прихрамывал, и происходило это от какого-то природного дефекта в ступне (вследствие чего он и обувь носил по специальному заказу), но эта еле заметная хромота не мешала Яремичу быть неутомимым пешеходом. Говорил он с едва уловимым украинским акцентом, придававшим, однако, своеобразную прелесть его речи.
Вначале Яремич, видимо, робел, но впоследствии я убедился, что он вообще несколько утрирует свою природную робость, пользуясь ею как некоторым средством нравиться. Он охотно улыбался, приятно и часто смеялся. Сразу же стала приметной его склонность соглашаться с собеседником, но это его соглашательство не означало какого-либо заискивания, а обнаруживала лишь чрезвычайную мягкость характера и, пожалуй, известную шаткость собственных убеждений. Впрочем, в каких-то главных вопросах между нами сразу наметилось действительно большое единодушие. Были у Степана Петровича и разные причуды, но они только придавали ему лишний шарм. Одна из самых курьезных причуд была та, что он ни за что не желал сообщить, сколько ему лет, но и это было какое-то кокетство несколько женственного оттенка; женские черты вообще преобладали в его характере. Никогда он не говорил ни о своем прошлом, ни о своем происхождении, ни о своих родных, и лишь случайно, много лет позже, я узнал, что его отец принадлежал к духовному званию. Пожалуй, нечто от семинариста или бурсака было и в Степане Петровиче, но он был бы ужасно огорчен, если бы узнал, что производит такое впечатление и что таинственность, которой он себя окружил, была отчасти разоблачена. Во всяком случае, детство и ранняя юность у него были, вероятно, незавидными и чем-то таким, о чем неприятно вспоминать; это не мешало ему интересоваться детскими и юношескими годами других и вообще знать толк в этой не всякому доступной области.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Мои воспоминания. Книга вторая"
Книги похожие на "Мои воспоминания. Книга вторая" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Александр Бенуа - Мои воспоминания. Книга вторая"
Отзывы читателей о книге "Мои воспоминания. Книга вторая", комментарии и мнения людей о произведении.