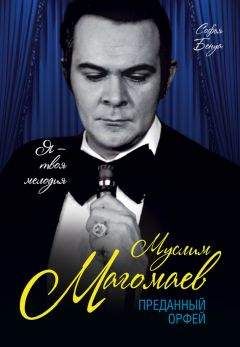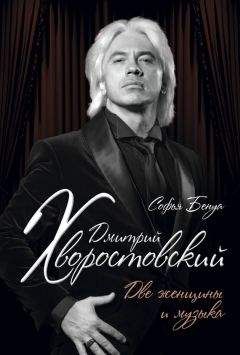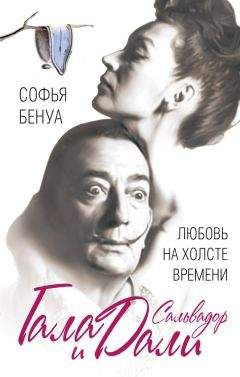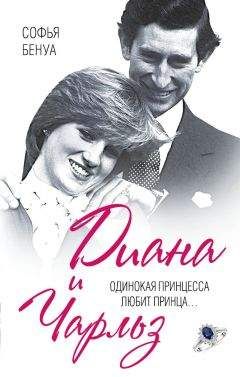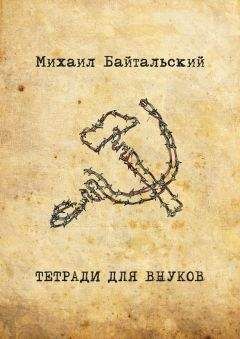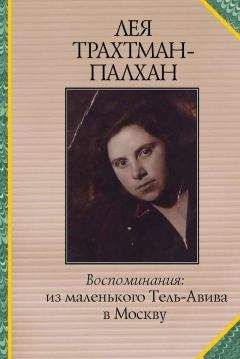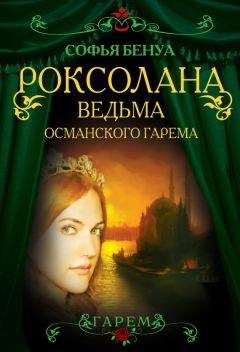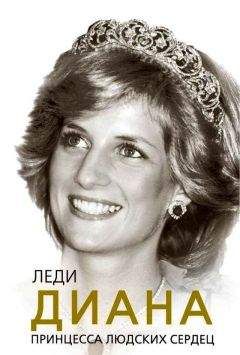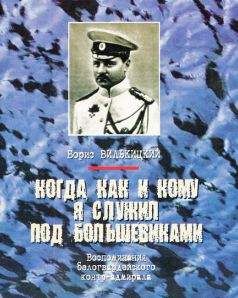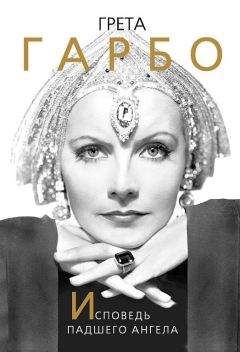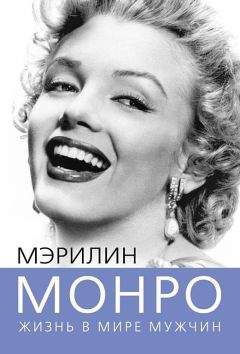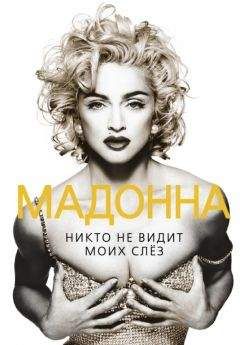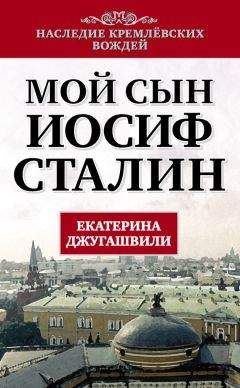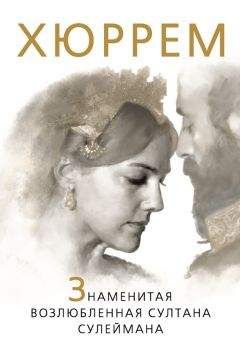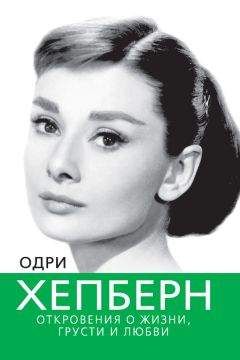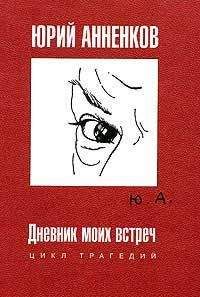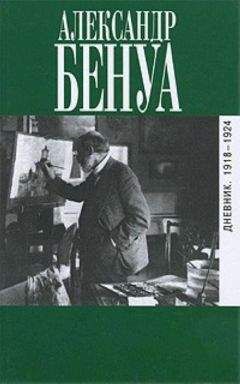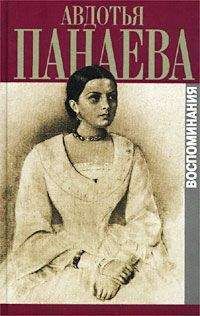Александр Бенуа - Мои воспоминания. Книга вторая

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Мои воспоминания. Книга вторая"
Описание и краткое содержание "Мои воспоминания. Книга вторая" читать бесплатно онлайн.
Воспоминания живописца, театрального декоратора, художественного критика и историка искусства Александра Николаевича Бенуа (1870–1960) являются настольной книгой для интеллигентного читателя. По мнению академика Д. С. Лихачева, автор учит любви к своей стране, к своему городу, к своей семье и ее традициям. К «Воспоминаниям» А. Н. Бенуа можно обращаться и за справками, и за знаниями, и просто ради душевного отдыха…
Впервые воспоминания А. Н. Бенуа под названием «Жизнь художника» были опубликованы в 1955 году на русском языке в двух томах в «Издательстве имени Чехова» в Нью-Йорке.
В 1960 и 1964 годах в Лондоне был издан двухтомный английский перевод мемуаров, который включал и новые главы.
Третье издание воспоминаний Бенуа, еще более полное и с примечаниями, появилось в 1980 году в Москве в академическом издательстве «Наука». И, наконец, в 1990 году «Наука» переиздала этот двухтомник, восстановив купюры, сделанные в 1980 году.
Здесь печатается полный текст, немного отредактированный для большей легкости чтения (в частности, иноязычные слова переведены прямо в тексте) и с соблюдением всех норм современной пунктуации и орфографии.
Приступив в начале января 1900 года к отправлению обязанностей, я испытал немалое смущение, когда увидел перед собой группу в двадцать, если не в тридцать молодых людей обоего пола, из коих многие были одних лет со мной, однако мне удалось свою робость скрыть, к тому же мое смущение скоро рассеялось, когда я увидал, с каким вниманием эта молодежь меня слушает. Уже на третий раз я до такой степени свыкся с положением и набрался такого апломба, что решился не читать по тетрадке, а импровизировать на месте свои введения в каждую эпоху и в каждый стиль.
Увы, мое преподавание продолжалось всего до весны, и уже в мае я подал в отставку, придравшись к чему-то, что не имело прямого отношения ни к моей деятельности, ни ко мне лично. Я счел себя обиженным тем, что верховное начальство Училища и Музея, А. А. Половцев, сначала ассигновал известную сумму денег на отправку в Париж на Всемирную выставку всего преподавательского состава, а затем поставил условием этой отправки, чтобы вся эта группа лиц была подчинена известному руководителю экспедиции. Обиделся на это и мой коллега по училищу В. В. Матэ, но он все же покорился воле начальника и свою отставку взял обратно; я же, должен покаяться, скорее придрался к случаю и покинул училище с легким сердцем. Эти уроки только утомляли меня, вся атмосфера, царившая у Штиглица, была мне совсем не по нутру, а материальное вознаграждение — совершенно грошовое.
ГЛАВА 37
Лето в Петергофе
Все же я в Париж на выставку поехал, и поехала даже после меня и моя жена, но случилось это в августе, а до того прошло почти все лето — мое второе по возвращении на родину лето. И было оно для меня как художника настолько важным, что необходимо здесь на нем остановиться. На сей раз я решил осуществить давнишнюю мечту и поселиться в Петергофе, где я если иногда и бывал и гостил наездами, однако длительного пребывания с самого лета 1885 года не имел. Впрочем, и те мои детские и юношеские пребывания если и содержали в себе массу разнообразных и самых прелестных впечатлений, однако Петергофом как таковым я тогда не пользовался, проводя лето главным образом у братьев на их дачах в Бобыльске и в Ораниенбаумской Колонии.
Наметив себе Петергоф как дачную резиденцию, я уже вперед составил целую программу работ. Пребывание в этом месте, в самом для моего сердца милом, должно было меня воодушевить на то, чтоб создать не только отдельные этюды, но и целый ансамбль внешних и внутренних видов дворцов и парков Петергофа, насыщенных для меня сентиментальными воспоминаниями и историческими видениями. Я готовился исполнить как бы некий обет, данный давным-давно.
Именно в окрестностях столицы, и особенно в Петергофе, творческие усилия монархии выразились в грандиозных художественных формах; выражение величия и мощи России соединилось здесь с теми чарами, которые присущи нашей северной природе. Это соединение художественной фантазии с природной прелестью произошло здесь в тот момент, когда европейское искусство переживало чудеснейший расцвет и целый ряд отличных западных художников оказались к услугам российского государства. Приглашенные Петром, Анной, Елисаветой, Екатериной II и Павлом зодчие, декораторы, садоводы, скульпторы, резчики, бронзовщики и т. д., побуждаемые широкими замыслами царственных и вельможных меценатов, создали именно на русской земле свои шедевры. Леблон, Шлютер, Ринальди, Кваренги, Камерон, Гонзага и превосходящий их всех размахом и романтикой своих замыслов Растрелли, — все они потрудились во имя одной и той же идеи, и как ни своеобразны в отдельности творения каждого мастера (или каждой группы), но всем им присуща одна общая черта, отвечающая необъятной шири русской земли и размаху русской жизни.
Особое очарование придает Петергофу то, что он расположен на самом берегу моря, а также и то, что здесь на всем лежит отпечаток той гениальной личности, благодаря воле которой рожден и в память которой Петергоф и получил свое наименование. Мало того, в Петергофе, и только в нем, можно было как бы прикоснуться к нему, к собственной персоне Петра. Вступая в покои Монплезира или в павильоны Марли и Эрмитажа, посетитель начинал дышать тем же воздухом, которым дышал он; стоя перед ступенями каскадов, служащих подножием Большого Дворца, мы видели осуществленным и действующим то самое, что он вызвал к жизни и чем он любовался. Петр I, этот сверхчеловек, показал здесь, что он не чужд чего-то такого, что другим словом как поэзия, не назовешь. В учебниках (да и в серьезных исторических трудах) Петра обыкновенно выставляют в виде какого-то политического аскета, в виде человека, чуждавшегося всякой роскоши, всякой жизненной красоты. На самом же деле Петр продолжал быть политическим аскетом только пока он весь был поглощен непомерной работой ломки старого и положением основ нового строя, того, что в его провидении должно было спасти и возвеличить Россию. Однако, как только посеянное стало всходить и появились первые плоды, так Петр вспомнил и о другой своей миссии — о созидании жизненной красоты. Но это и нельзя назвать «исполнением какой-то миссии», — влекли его к тому глубокие духовные потребности. В целом ряде мероприятий, из коих значительная часть именно выпала на долю Петергофа, он показал себя художником, человеком, обладающим своеобразным вкусом и знающим толк в прекрасном. Между прочим, нельзя объяснить одной счастливой случайностью, что вчерашний варвар остановил, из всех мастеров Запада, свой выбор на самых лучших и что он их привлек к творчеству во имя величия и великолепия России.
Для того, чтоб я смог выполнить поставленную себе помянутую задачу, надлежало первым долгом заручиться разрешением Петергофского Дворцового правления работать где и когда мне вздумается, и тут мне помогли как Валечка Нувель, служивший в Канцелярии министерства двора (и успевший за короткое время очень подвинуться по службе), так и мои другие связи. Все разрешения я и получал заблаговременно, и это позволило мне приступить к работе с самого начала мая на всем пространстве петергофских парков и садов, а также внутри всех дворцов и павильонов. Единственным недоступным местом остался весь участок Александрии, и это вполне понятно, так как в стоящих на этом участке дворцах жили члены императорской фамилии. С другой стороны, как раз эти места, лишенные прелести далекого прошлого, меня менее интересовали.
К самым сладостным и поэтическим моим воспоминаниям принадлежали те часы, которые я проводил в чудные июньские и июльские дни 1900 года в каком-нибудь Марли или в Монплезире. Я старался так распределить свое время, чтоб работать внутри дворца по утрам, когда в нем не бывало посетителей и никто не мог мне мешать; в остальное же время, если погода позволяла, я был занят снаружи. Впрочем, внутри Марли, который вообще менее посещался, я мог вдоволь наслаждаться, пребывая здесь и в послеобеденные часы в полном одиночестве, тем, что в этом миниатюрном дворце Екатерины I напоминало моих любимых голландских художников Питера де Хоха и Яна Вермеера.
Так же, как на картинах Вермеера и Питера де Хоха, выбеленные стены этих домиков насыщались отблеском пронизанной солнцем листвы, тесно обступающих деревьев, так же в них блестели выложенные в шашку полы, так же сочно выделялись на светлых фонах темные рамы тонко написанных картин. А через настежь открытые окна временами доносилось дребезжание того колокольчика, которым придворный, состоявший при Марли лакей, по желанию забредшей публики, вызывал в пруду золотых рыбок, получавших в награду за беспокойство хлебные крошки.
И до чего упоительно было вдыхать во время этих моих занятий опьянительные ароматы сирени, душистого горошка, резеды, гелиотропа и всяких других цветов, вливавшиеся через окна и двери! Как чудесно сливались они с тем совершенно особым, специфическим запахом старины, что шел от видевших Петра стен, от картин, от мебели. Совершенно странно пахло чем-то пряным, заморским в Японском кабинете Монплезира, кипарисовые доски которого, несмотря на свое двухсотлетнее существование, все еще издавали необычайно сильный и острый аромат, замечательно вязавшийся со всем убранством этой маленькой, роскошно-узорчатой комнатки. Как досадовал я на то, что как раз теснота этого кабинета не позволяла мне найти тот нужный отход, который дал бы мне возможность представить весь этот ансамбль. Невозможно было также изобразить внутренность монплезирской «Вольери» с прекрасно сохранившейся живописью Пильмана в куполе… А впрочем, покидая осенью Петергоф, я считал, что исполнил лишь малую часть намеченной себе задачи. Впоследствии кое-что мне удалось еще дополнить в течение двух летних пребываний в Петергофе в 1907-м и особенно в 1918 году, но и после того оказалось, что Петергоф неисчерпаем.
Из наших многочисленных друзей ближайшие, Сережа и Дима, проводили лето 1900 года в имении Философовых, Богдановском; Сомов жил на даче со своими родителями близ местечка Лигово, Бакст, если не ошибаюсь, снова пропадал в Париже; лишь Нувель и Нурок оставались в Петербурге и изредка навещали нас. Однако ни тот, ни другой не имели никакого вкуса к природе и еще менее к красоте и поэзии исторических мест. Зато я встретил энтузиастское отношение к Петергофу со стороны обоих Лансере. В это же время я ближе сошелся с одним юным химиком Владимиром Яковлевичем Курбатовым, у которого изучение под-столичных достопримечательностей стало впоследствии его добавочной (кроме химии) специальностью. Но мог ли я тогда думать, что именно этот самый Курбатов, такой безобидный с виду, такой доброжелательный, обладатель такого тоненького, совершенно женского голоска, нанесет (уже при большевиках) ужасный ущерб именно Петергофу (а впрочем, и Царскому Селу). Из какого-то плохо понятого пиетета перед стариной и из увлечения старинными садами, это он настоял перед властями (около 1930 года) на том, чтоб были вырублены столетние ели, выросшие по уступам террасы, что тянется под Большим Петергофским Дворцом. Эти ели придавали единственную в своем роде сказочность всей местности.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Мои воспоминания. Книга вторая"
Книги похожие на "Мои воспоминания. Книга вторая" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Александр Бенуа - Мои воспоминания. Книга вторая"
Отзывы читателей о книге "Мои воспоминания. Книга вторая", комментарии и мнения людей о произведении.