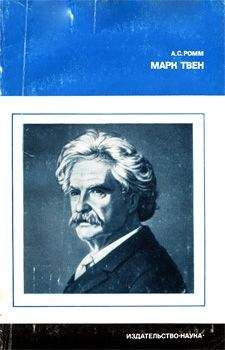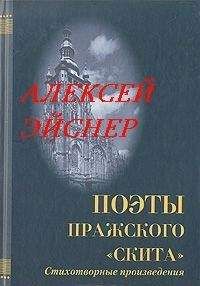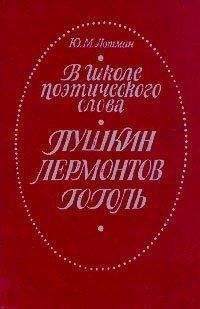Вольф Шмид - Проза как поэзия. Пушкин, Достоевский, Чехов, авангард

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Проза как поэзия. Пушкин, Достоевский, Чехов, авангард"
Описание и краткое содержание "Проза как поэзия. Пушкин, Достоевский, Чехов, авангард" читать бесплатно онлайн.
Вольф Шмид — профессор славистики (в частности русской и чешской литературы) Гамбургского университета. Автор книг: «Текстовое строение в повестях Ф.М. Достоевского» (no-нем., Мюнхен 1973, 2-е изд. Амстердам 1986), «Эстетическое содержание. О семантической функции формальных приемов» (no-нем., Лиссе 1977), «Орнаментальное повествование в русском модернизме» (no-нем., Франкфурт 1992), «Проза Пушкина в поэтическом прочтении. Повести Белкина» (по-нем., Мюнхен 1991; по-русски, СПб. 1996).
Главы публикуемой книги объединены нетрадиционным подходом к предмету исследования — искусству повествования в русской прозе XIX—XX вв. Особое внимание автор уделяет тем гибридным типам прозы, где на повествовательную канву текста налагается сеть поэтических приемов. Автор предлагает оригинальные интерпретации некоторых классических произведений русской литературы и рассматривает целый ряд теоретических проблем, ставших предметом оживленных дискуссий в европейской науке, но пока еще во многом новых для российского литературоведения.
Умирая, архиерей переходит через границу. Однако сначала он пересекает не границу смерти, а переходит из одной жизни в другую. Переставая быть священником, он становится тем свободным человеком, каким он был в детстве и каким остаться помешала ему его должность. Не иначе следует понимать его быстрое, веселое хождение по чистому полю под широким небом.[533] Новообретенная жизнь умирающему, правда, достается лишь на один момент. Прозрение осуществлено, но оно не может иметь последствий. Мало того, новая жизнь, внезапно обрывающаяся, стала возможной только благодаря наступающей смерти. Обнажается недостающая последственность прозрения в эпилоге рассказа:
«Через месяц был назначен новый викарный архиерей, а о преосвященном Петре уже никто не вспоминал. А потом и совсем забыли» (X, 201).
Когда его мать, сходясь с другими женщинами, робко говорит о том, что сын у нее был архиерей, ей не все верят.
Несколько иначе обстоит дело с прозрением умирающего героя в рассказе «Скрипка Ротшильда»[534]. И гробовщик Яков Иванов, умирая, переходит через границу. Об этом свидетельствует его жалоба. До сих пор он жаловался только на коммерческие убытки, вытекающие из того, что люди слишком редко умирают. Теперь же он жалуется также на нравственные убытки, которые люди друг другу причиняют:
«Зачем вообще люди мешают жить друг другу? Ведь от этого какие убытки? Какие страшные убытки! Если бы не было ненависти и злобы, люди имели бы друг от друга громадную пользу» (VIII, 304).
Переменился он, правда, не полностью. Ибо нравственные убытки он ставит в один ряд с материальными[535], а подведенные им итоги — сплошная абсурдность:
«Идя потом домой, он соображал, что от смерти будет одна только польза: не надо ни есть, ни пить, ни платить податей, ни обижать людей, а так как человек лежит в могилке не один год, а сотни, тысячи лет, то, если сосчитать, польза окажется громадная. От жизни человеку — убыток, а от смерти — польза» (VIII, 304).
Хотя ментальное событие Якова Иванова обнаруживает некий недостаток результативности, оно все‑таки имеет последствия. Ибо умирающий дает свою скрипку измученному им Ротшильду. В этом сказывается не только покаяние исповедующегося, желание возместить причиненные им обиды, но и отеческая забота об оставляемой им «сироте» — скрипке. Спрашивается, однако, обнаруживает эта забота в суровом гробовщике, который забыл даже о том, что у него был ребенок, новое мышление или же только старую установку на предмет, заменяющий человека, т. е. привычную у него смену предмета на человека. Мы помним: ночью, когда Иванова донимали мысли об убытках, утешение доставляла ему лежащая рядом с ним на постели скрипка. Больную же свою жену он представил фельдшеру как свой «прёдмет» (VIII, 299). Как бы то ни было, когда флейтист Ротшильд, повторяя на скрипке скорбные звуки думавшего о пропащей, убыточной жизни Иванова, трогает слушателей до слез и таким образом получает большую ползу, как нравственную, так и материальную, несовершенное прозрение скрипача Бронзы имеет совсем неожиданные последствия.
Недостаток консекутивности обнаруживают неодновременные объяснения в любви, имеющиеся в некоторых рассказах. Дмитрию Старцеву и Екатерине Туркиной, героям рассказа «Ионыч», приходится преодолевать психологические баррьеры, пересекать границу, чтобы признаться в любви, но они объясняются друг другу в каждом случае некстати. Их объяснения, которые могли бы образовать событие, приводят их только в неловкое положение.
В рассказе «Три года» длительное ухаживание Лаптева за Юлией только тогда имеет успех, когда он сам уже охладел. В отличие же от финала «Ионыча» развязка этого рассказа не исключает совместного перехода через границу, синхронности любви. Но изображена лишь холодная реакция Лаптева на позднее объяснение Юлии в любви. Позволяет ли мысль Лаптева («Поживем — увидим»; IX, 91), заключающая рассказ, продолжить линию истории до положительного, событийного финала, предоставляется решить читателю.
Многие чеховские события существенно редуцируются тем, что их реальность вызывает сомнение. Тоска по другой, лучшей жизни пронизывает многих из чеховских героев, но в большинстве случаев граница переступается ими только в мечтании, в иллюзиях. В редкой вещи недостаток реальности демонстрируется так явно, как в рассказе «На подводе». Деревенская учительница Марья Васильевна, возвращающаяся на телеге из города домой, представляет себе свою тяжелую, безрадостную, одинокую жизнь. Из всей жизни до ее поступления в учительницы «осталось в памяти что‑то смутное и расплывчатое, точно сон» (IX, 335). Родители скоро умерли. Брат давно уже не отвечает на ее письма: «От прежних вещей сохранилась только фотография матери, но от сырости в школе она потускнела, и теперь ничего не видно, кроме волос и бровей» (IX, 335). Деревня уже видна, а дорога закрыта опущенным шлагбаумом железной дороги. Стоя на переезде, героиня ждет, когда пройдет поезд. На площадке одного из вагонов первого класса она видит даму, поразительно похожую на мать —
«И она живо, с поразительной ясностью, в первый раз за все эти тринадцать лет, представила себе мать, отца, брата, квартиру в Москве, аквариум с рыбками и все до последней мелочи, услышала вдруг игру на рояле, голос отца, почувствовала себя, как тогда, молодой, красивой, нарядной, в светлой, теплой комнате, в кругу родных…» (IX, 342).
Между тем к шлагбауму подъезжает на четверке сосед Ханов, красивый, немножко опустившийся холостяк, давно уже занимающий воображение героини. При его виде учительница воображает счастье, «какого никогда не было», и кажется ей, будто никогда не умирали ее отец и мать, никогда она не была учительницей: «то был длинный, тяжелый, странный сон, а теперь она проснулась…» (IX, 342).
Из этих сладких мечтаний ее возвращают в безрадостную действительность слова старика Семена: «Васильевна, садись!».
В рассказе обрисовываются два события: во–первых, восстановление прошлого и тем самым — создание нового жизнеощущения и, во-вторых, вход в новую, счастливую жизнь вместе с соседом. Обе перемены оказываются, однако, иллюзиями, вызванными проезжающей дамой, похожей на мать. Новообретенное чувство собственного достоинства не имеет большей фактической опоры, чем воображаемая связь с соседом. Даже реальность содержания воспоминаний подвергается сомнению. Во всяком случае воспоминания не вызывают настоящего изменения. Недаром сказано, что после слов кучера «вдруг все исчезло» (IX, 342). Героиня переступила через две границы, поддающиеся символическому истолкованию: она пересекла реку и переехала железнодорожный переезд, но реальное движение исчерпывается той не–событийной переменой мест, на которую указывают начало и конец рассказа: «В половине девятого утра выехали из города» (IX, 335) — и наконец «приехали» в деревню (IX, 342)[536].
И там, где иллюзорность перемены обнаруживается не так явно, как в этом рассказе, на ментальные события часто ложится тень недостающей реальности. Примером служит «Дама с собачкой», рассказ, в котором многие ученые признают действительное событие, а именно переход курортного романа в настоящую любовь, превращение Гурова, циничного, презирающего женщин волокиты, в истинно любящего мужчину. После тщательного анализа рассказа Ян ван дер Энг констатирует, что «оппозиции» между прежними романами Гурова и теперешней связью с Анной Сергеевной, сначала имеющие характер «аналогии», к концу рассказа предстают как «антитезы». Таким образом, ван дер Энг описывает «психологическое развитие» Гурова как «постепенный процесс эмоционального и нравственного пробуждения, сначала вряд ли узнаваемого, а потом долго неясного»[537].
Неясности, преодоленные, по мнению ван дер Энга, в действительности остаются. Оставим даже без внимания, что любовники, в бесконечных беседах обсуждающие вопрос, «как освободиться от этих невыносимых пут» (X, 143), на самом деле не принимают ни малейшей меры для достижения своей цели.
Неясна не только консекутивность события, но и его реальность. Рассмотрим те конечные предложения, на которые, как правило, ссылаются сторонники версии об эмоциональном и нравственном изменении. Гуров сравнивает Анну с прежними своими любовницами:
«И ни одна из них не была с ним счастлива. Время шло, он знакомился, сходился, расставался, но ни разу не любил; было все что угодно, но только не любовь.
И только теперь, когда у него голова стала седой, он полюбил, как следует, по настоящему — первый раз в жизни.
Анна Сергеевна и он любили друг друга, как очень близкие, родные люди, как муж и жена, как нежные друзья […] Они […] чувствовали, что эта их любовь изменила их обоих» (X, 143).
Эти слова действительно констатируют новое нравственное и эмоциональное состояние героя. Но они являются не чистым текстом рассказчика, а текстовой интерференцией[538], изложением сознания героя в форме объективного рассказа от третьего лица. Рассуждает и ощущает тут Гуров. Не будем сомневаться в том, что Гуров «теперь» в самом деле убежден в «этой их любви» и ее изменяющей силе. Но какую объективность можно присудить такому убеждению? Не истекает ли оно из мгновенной вспышки сентиментальности, из сознания приближающейся старости? Мог ли Гуров, представленный нам как циник, так основательно измениться? Можем ли мы верить в способность к истинной любви того человека, который о женщинах отзывался почти всегда дурно, называя их «низшей расой» (X, 128)? Не настораживает ли нас, что «эта их любовь» возникла только после разлуки и что тайная жизнь Гурова, по всей очевидности, вполне совместима для него с другой его жизнью в обществе? Последовательное изложение истории с точки зрения персонажа не позволяет нам увидеть за субъективным убеждением героя объективной реальности. Но экспозиция Гурова и расцвет его первой «настоящей» любви в условиях двойственной жизни бросают тень на реальность его превращения, вызванного — как считает он и вместе с ним многие исследователи — «этой их любовью».
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Проза как поэзия. Пушкин, Достоевский, Чехов, авангард"
Книги похожие на "Проза как поэзия. Пушкин, Достоевский, Чехов, авангард" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Вольф Шмид - Проза как поэзия. Пушкин, Достоевский, Чехов, авангард"
Отзывы читателей о книге "Проза как поэзия. Пушкин, Достоевский, Чехов, авангард", комментарии и мнения людей о произведении.