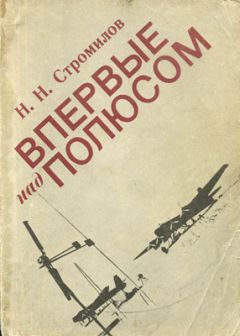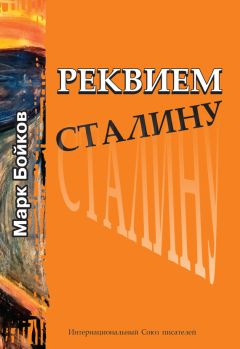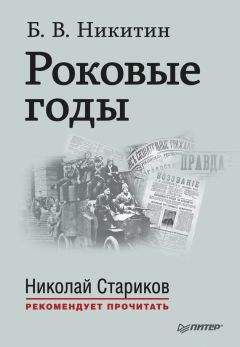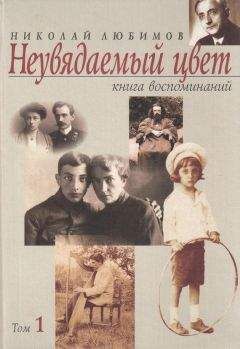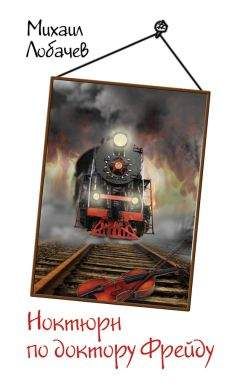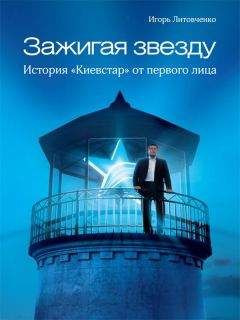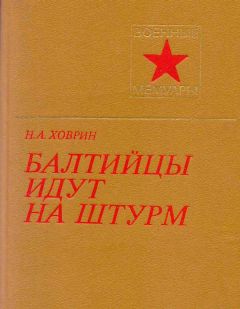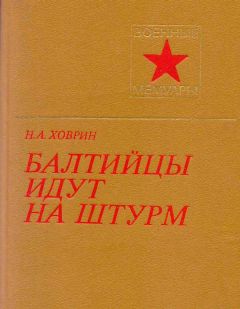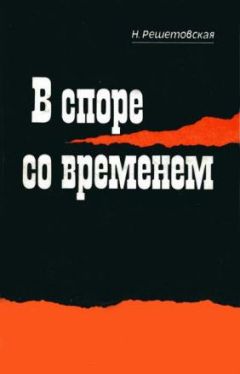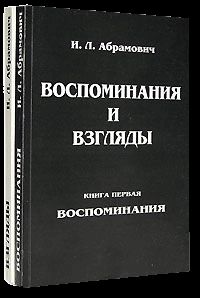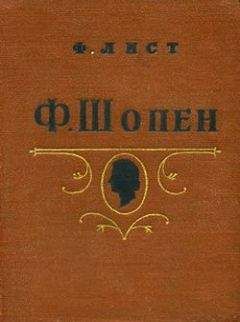Игорь Дьяконов - Книга воспоминаний

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Книга воспоминаний"
Описание и краткое содержание "Книга воспоминаний" читать бесплатно онлайн.
"Книга воспоминаний" известного русского востоковеда, ученого-историка, специалиста по шумерской, ассирийской и семитской культуре и языкам Игоря Михайловича Дьяконова вышла за четыре года до его смерти, последовавшей в 1999 году.
Книга написана, как можно судить из текста, в три приема. Незадолго до публикации (1995) автором дописана наиболее краткая – Последняя глава (ее объем всего 15 стр.), в которой приводится только беглый перечень послевоенных событий, – тогда как основные работы, собственно и сделавшие имя Дьяконова известным во всем мире, именно были осуществлены им в эти послевоенные десятилетия. Тут можно видеть определенный парадокс. Но можно и особый умысел автора. – Ведь эта его книга, в отличие от других, посвящена прежде всего ранним воспоминаниям, уходящему прошлому, которое и нуждается в воссоздании. Не заслуживает специального внимания в ней (или его достойно, но во вторую очередь) то, что и так уже получило какое-то отражение, например, в трудах ученого, в работах того научного сообщества, к которому Дьяконов безусловно принадлежит. На момент написания последней главы автор стоит на пороге восьмидесятилетия – эту главу он считает, по-видимому, наименее значимой в своей книге, – а сам принцип отбора фактов, тут обозначенный, как представляется, остается тем же:
“Эта глава написана через много лет после остальных и несколько иначе, чем они. Она содержит события моей жизни как ученого и члена русского общества; более личные моменты моей биографии – а среди них были и плачевные и радостные, сыгравшие большую роль в истории моей души, – почти все опущены, если они, кроме меня самого лично, касаются тех, кто еще был в живых, когда я писал эту последнюю главу”
Выражаем искреннюю благодарность за разрешение электронной публикаци — вдове И.М.Дьяконова Нине Яковлевне Дьяконовой и за помощь и консультации — Ольге Александровне Смирницкой.
«… все –
Кроме зубных щеток».
На заводах вводилась система оплаты, позже получившая осуждающее название «уравниловки».
Начиналась стройка годов индустриализации, и в город притекало новое, неприкаянное население из деревни — на каждом заборе висели объявления, кое-как написанные чернилами на рвущейся серой бумаге или на обороте обоев:
ТРЕБУЮТСЯ…
И далее шел огромный список рабочих специальностей. Безработица кончилась. Съезжались в города и спасающиеся от раскулачивания, не желавшие идти в колхоз, прирезавшие коров и кур, — чтобы встать за станок. Жить было негде, — вселение рабочих в опустевшие барские квартиры было каплей в морс, — и началась новая волна уплотнения квартир интеллигенции. Впрочем, трудящаяся интеллигенция еще имела обычно право на «самоуплотнение» — то есть на выбор вселяющихся.
Так выглядел из интеллигентских окон «год великого перелома».
Но это совсем не значит, что интеллигенция была враждебно настроена против советской власти. Она по-прежнему считала своим долгом быть «лояльной», во всем окружающем старалась видеть хорошее. Еще никому не приходило в голову, что «лояльности» мало, и перед интеллигенцией еще не ставилась задача непременно быть беспартийными большевиками. Между тем и до интеллигентов докатывались волны настроения рабочих и коммунистов.
А им, перенесшим на своих плечах голодную и кровавую тяготу гражданской войны, был несносен нэп, эта нищая пародия на с таким трудом свергнутый капитализм. Они боролись за светлое будущее, непохожее на все, что было в прошлом, и некоторое облегчение быта, которое принес нэп, не могло им его заменить. Да и облегчение было для них невелико, — конечно, не было при нэпе карточек, появились в магазинах товары, но нужны были деньги, а на столе рабочих все еще и при нэпе была пшенная каша, и все годы нэпа перед большим желтым зданием с башней на Кронверкском проспекте (улице Максима Горького с середины тридцатых годов) — перед Биржей труда, — улицу запруживали толпы жалких и оборванных безработных. Возглас «За что боролись?!», ставший уже шуточно-нарицательным, затрепанный в устах пьяниц, которых не пускают без очереди к прилавку, — был в действительности криком души.
Теперь же — со всем этим было покончено. Теперь — отступление кончилось, и начинается всерьез то самое дело, за которое боролись, шли на расстрел и водили на расстрел, голодали, мерли в тифу и под пулеметным огнем: начиналось строительство социализма. Бравшие индустриализацию под сомнение «правые» презирались, а Сталин для рабочих, да и для многих из интеллигентной молодежи стал кумиром. И пусть старшие интеллигенты говорили «эксперимент», — грандиозность и смелость этого эксперимента захватили и их. Волна подлинного энтузиазма залила города, — рабочих, молодежь, — и от этой волны нельзя было уйти и интеллигенции.
Как всегда в революционный период, достижение цели казалось близким. Социализм, — а он мыслился, конечно, не просто как экономический строй, где все средства производства обобществлены, а как светлая жизнь, — должен был наступить если не к концу первой пятилетки, той самой, к выполнению которой «в четыре года» со всех стен призывали выцветшие кумачевые плакаты, — то уж во всяком случае к концу второй; дети, вот эти самые, наши, еще рахитичные и босые дети на наших улицах, уже будут жить светло и радостно. Никто не любит жертвовать для неизвестных людей, для каких-то будущих поколений; а наши дети — это мы, и даже важнее нас. Как потом корили многих родителей, проживших тяжелую и иной раз героическую жизнь, за то, что они устраивали своим детям жизнь балованых барчуков, — но ведь это только гримаса того чувства, которое одушевляло строителей пятилеток.
«Пятилетку, нашу детку
Создадим, создадим, –
Осетринки, лососинки
Поедим, поедим!»
Так с тогдашней эстрады осмеивались «совмещане» с их потребительским отношением к социализму. Но — ведь это тайножило в каждом. Не в осетринке дело, — это каждый бы отверг с возмущением и гневом, — но мысль о близости, близости светлой, не омраченной заботами жизни, — разве это, в сущности, не то же? Для одного это — лососинка, для другого — просто человеческие условия существования для себя, еще важнее — для детей (мы-то можем потерпеть!). И это будет скоро, это мы увидим. Так верили вокруг нас коммунисты и сознательные рабочие. И, — это оказалось потом чреватым последствиями, — так учил Сталин. А гражданская война научила и тому, как человеческая жизнь ничего не стоит по сравнению с идеей. Перед идеей человек сходит на нет так легко! Девять грамм свинца!
А интеллигенции хотелось забыть о гражданской войне. У нее было много работы, и она поглощала все мысли. Но при этом хотелось понять общее дело и участвовать в нем, хотелось, наконец, перестать считаться официально людьми второго разряда, — как жиды в «Тарасе Бульбе», которых — придут поляки — вешают поляки, придут казаки — вешают казаки. Ведь придут белые — разве они не перевешают интеллигентов, которые «сделали революцию» или, по крайней мере, служили ей? А в глазах рабочих, едущих с тобой вместе в трамвае, слишком явно виделось желание тоже нас, интеллигентов, перевешать, да и нередко и высказывалось это довольно откровенно. Но интеллигенция верила Ленину, для которого, как думалось ей, — Иван Петрович Павлов, и Художественный театр, и Шаляпин, и все, что было гордостью интеллигенции, — было на самом деле неприкосновенно. А пятилетка открывала перед интеллигенцией совсем уже небывалые творческие возможности. И хотелось быть всему этому не чужими, — хоть и сохраняя свои собственные мысли. Словом, по обыкновению, интеллигенция была ни богу свечка, ни черту кочерга, с точки зрения обывателя.
Папа работал с интересом и с обычной своей энергией. Что получится хорошо, и что — плохо, справятся ли большевики с продовольственными трудностями, построят ли они большую индустрию — было неясно; пока из новых строек вокруг нас были видны только новые унылые дома-коробки — смутные реминисценции конструктивизма и Корбюзье, весьма невзрачного вида, с низкими коммунальными квартирами или комнатами вдоль длинных коридоров, с подтеками по стенам, не высыхающими уже со второго года жизни; да еще всюду кое-как надстраивались старые дома, — от этих уродливых надстроек с трудом спасли улицу Зодчего Росси. Их и теперь, как присмотреться, видно много в городе повсюду. Такое строительство ни в какой мере не спасало город от все растущей жилищной нужды. Но папа считал, что до сих пор у «них» все задуманное выходило. Во всяком случае, «они» хотят хорошего, и наше дело — работать.
Во вредительство папа не верил — обвинения, предъявлявшиеся на самых громких процессах, печатавшихся в газетах (а сколько «процессов» прошло бесшумно и без огласки!) были столь мизерны, политический и экономический эффект того, что вменялось вредителям, если оно в самом деле было бы приведено в действие, мог бы быть лишь столь ничтожным, любая просто неловкая или глупая мера так легко могла быть перетолкована и так часто перетолковывалась как вредительство, — что с папиной точки зрения, гораздо более вероятным казалось: все это затеяно с целью истолковать для рабочих многие трудности и неудачи индустриализации и натравить их на интеллигенцию.
А трудности и неудачи были неизбежны. Страна была неподготовлена к гигантскому и поспешному техническому прогрессу, у нее не хватало квалифицированных рук, старые инженеры пожимали плечами и с трудом учились работать с такой скоростью и напряжением, которые требовались сейчас. Коммунистов-интеллигентов было ничтожно мало, и руководители всюду были из рабочих, — всё малообразованные, хотя по большей части энергичные и нередко умные и дельные люди. Срочно обучались тысячи и тысячи новых инженеров и техников, были введены сокращенные курсы обучения, учащиеся набирались, по возможности, из рабочих через рабфаки; высшие учебные заведения, — ВУЗ'ы и ВТУЗ'ы, как они теперь назывались, — были разукрупнены и давали, каждое, лишь самую узкую специализацию. Студенты выучивались основам такой специальности, но, конечно, им обычно не хватало технического и научного кругозора, не говоря уже об общей грамотности. Но нельзя же было признать, что и в этом — причины многих недостатков строительства. А с грамотностью в науке и технике дело обстояло из рук вон плохо.
Прямую неграмотность быстро и успешно ликвидировали через добровольные школы и «ликбезы», но от ликвидации безграмотности до образованности куда как далеко. Между тем пыл экспериментаторства охватил и школу — от высшей до низшей. В школах заправляли ШУС'ы — школьные советы учащихся; они вели борьбу с буржуазной педагогикой, фактически увольняли учителей по своему усмотрению.
Баллы в школе (и повсюду) были отменены. Школу кончали с «удовлетворительными», — а по существу часто с никакими знаниями. В университете зоология была заменена животноводством, ботаника — растениеводством, филология — экскурсионно-переводчсским делом. Старая лингвистика была объявлена криминалом, её заменил «чстырехэлементный анализ» по Н.Я.Марру, и кто сомневался в нем — исключался из университета как антисоветский элемент. Миша имел в университете большие неприятности за мягкую шляпу и брюки-гольф. Галстук, мягкая шляпа, танцы — все это было признаком буржуазности; комсомольцы ходили в косоворотках, свитерах, тужурках, в кепках; позже появились форменные «юнгштурмовки» цвета хаки с ремнем через плечо — в подражание немецким комсомольцам; на немецких коммунистов возлагались в тс дни большие надежды, и мы рассчитывали по пальцам — не много ли, если положить пять лет до революции в Германии. И, конечно, не сомневались, что тогда капитализм не удержится ни во Франции, ни в других странах Европы.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Книга воспоминаний"
Книги похожие на "Книга воспоминаний" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Игорь Дьяконов - Книга воспоминаний"
Отзывы читателей о книге "Книга воспоминаний", комментарии и мнения людей о произведении.