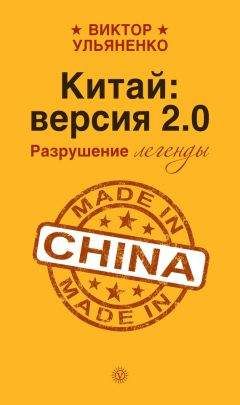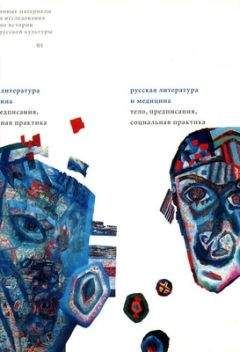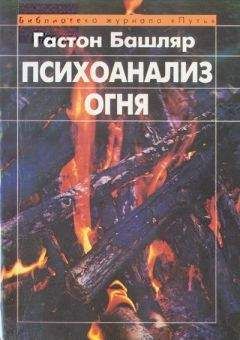Виктор Бычков - Феномен иконы

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Феномен иконы"
Описание и краткое содержание "Феномен иконы" читать бесплатно онлайн.
Из уже приведенного очевиден ход мысли и направление исследований одного из первых и талантливых исследователей заново открытой древнерусской иконописи. Не углубляясь в богословско–философское содержание иконы, в чем несомненная ограниченность его работы, он тем не менее сумел, может быть, значительно глубже и основательнее большинства последующих исследователей показать ее художественно–эстетическую значимость, основывающуюся в первую очередь на действительно аристократическом, высокодуховном понимании (в смысле художественного понимания, а не формально–логического, естественно) крупнейшими средневековыми мастерами основных выразительных элементов живописного языка. Именно и исключительно с их помощью они художественно выразили глубинные, плохо вербализуемые основы христианской духовности на столь высоком и универсальном эстетическом уровне, что древнерусская иконопись, сегодня это очевидно, заняла уникальное место в ряду выдающихся достижений мирового искусства всех времен и народов. П. Муратов одним из первых убедительно показал это в своем исследовании.
Диаметрально противоположную методологическую позицию в подходе к иконе занял его младший современник будущий искусствовед Н. Тарабукин[293], во втором десятилетии XX в. еще только нащупывавший свой путь в жизни и науке. Только в 1999 г. были опубликованы его небольшая книга «Философия иконы» и несколько статей об иконе[294]. Научный издатель текста А.Г. Дунаев на основе изучения рукописи пришел к выводу, что большая часть книги была написана автором в 1916 г., а затем постоянно редактировалась и дорабатывалась вплоть до 1935 г. Опубликовать тогда ее уже было невозможно.
Начались систематические гонения на любую, не вписывавшуюся в узкие рамки коммунистической идеологии гуманитарную науку.
Книга не является целостной монографией, а скорее рядом статей, заметок, или «писем», как их обозначает сам автор, подражая, видимо, популярному в кругах религиозной молодежи того времени «Столпу…» П. Флоренского. В центре этих «писем» — икона, но поднимаются и некоторые другие проблемы, в частности религиозно–эстетические, так или иначе тяготеющие к главной теме. Ощущается также, что книга начиналась в период бурной духовно–художественной жизни Серебряного века и «русского религиозного ренессанса», а дорабатывалась во всё сгущающейся атмосфере коммунистического идеологического прессинга на любую свободную мысль, отличную от официальной идеологии, особенно в сферах духа и искусства. Автор начинал книгу как бескомпромиссный жесткий христианский мыслитель–ригорист, эпатирующий авангардистских эстетов начала столетия почти кликушеским анафематствованием любого вне–церковного искусства и эстетического опыта, а завершал (в процессе доработки) как академический профессор–искусствовед в манере умеренного эстетического структурализма. Понятно, что ни первая, ни вторая ипостаси русского ученого, как и сам предмет исследования — икона, не были ко двору идеологов советской власти, так что рукопись пролежала не изданной до конца столетия.
Сегодня она уже не столь актуальна, какой могла бы быть во время своего написания. Практически мы не получаем никакого приращения знания к тому, что уже имеем; между тем какое–то влияние на искусствоведов своего времени идеи Тарабукина явно оказали, ибо он регулярно читал лекции, в которых мог затрагивать и вопросы, изложенные в рукописи, общался с коллегами, давал читать им свою работу. Некоторые из его идей использовал А.Ф. Лосев. Сегодня книга Тарабукина интересна уже как факт (в чем–то даже одиозный) истории отечественной религиозной эстетики и искусствознания. Совершенно очевидно, что автор знал работы П. Муратова, А. Грищенко, Н. Щекотова, в которых акцент делался на эстетической стороне иконы, но ближе ему были религиозные мыслители Е. Трубецкой, П. Флоренский, позже — А. Лосев, с ориентацией на которых он сформировал свои специфические «эстетические» представления, а также собственное понимание иконы.
Первые главы–статьи книги посвящены общим вопросам эстетики и искусства, осмысливаемого с демонстративно ригористической религиозной позиции. Для религиозного сознания, представителем которого сознает себя молодой Тарабукин, искусство, наука, философия суть «служанки богословия» (ancilla theologiae), в этом их истинный смысл и назначение и таковыми они должны оставаться всегда. Его эстетические установки основываются на немецкой классической эстетике (Кант, Шеллинг, Гегель) и представлениях некоторых греческих Отцов Церкви. В качестве главного эстетического принципа он считает гармонию, понимаемую исключительно религиозно — как «божественное начало, эманацию которого мы наблюдаем в мире, в его природных и искусственных формах. Присутствие гармонии в [мире] — мистично. Это дар Божий, ниспосылаемый человеку. Ощущение его может быть только религиозным. Природа и искусство служат лишь сосудами, вмещающими это абсолютное начало» (51). Красота в мире — «внешнее выражение гармонии», она представляет собой «отражение абсолютного совершенства в формах тварного мира. Бог есть абсолютная красота. Отражение божественного начала разлито в мире» (46). Красота — это «эманация Божества». Инстинкт красоты заложен в каждом человеке, и, движимый им, он творит искусство, как проявление красоты. «Форма красоты условна и зависит от уровня культуры и ее характера, но чувство красоты — едино. Красота ощущается человеком как умиротворение, покой, наслаждение, радость» (46).
Однако красота не только «концепция психологическая, но и объективная данность», ибо она — реальная эманация и отражение божественного начала. Красоте в мире противостоит безобразие, уродство, «то есть начало сатанинское, результат греха и отпадения от Бога». Искусство может быть как сосудом красоты, так и вместилищем уродства. В первом случае мы имеем дело с искусством религиозным, выражающим божественное начало. Во втором, как правило, — с искусством светским, и оно «в огромной своей массе — порождение сатаны» (46). В свете такого понимания искусства оно, «взятое как таковое», не получает положительной оценки у Тарабукина. «Возведенное в культ, как имманентное начало, искусство превращается в сатанинскую мессу, и каждый художник как таковой — в служителя сатаны». Оправдывает его только религиозное содержание, и тогда искусство становится «лишь сосудом, в котором мистически присутствует божественная гармония». В этом случае оно утрачивает самостоятельность и превращается в «служанку богословия», чем искусство, собственно, и являлось в средние века (51).
Явно в пику пышным цветом расцветавшему в начале столетия чистому внерелигиозному эстетизму в искусстве самого разного толка Тарабукин эпатирует «эстетов» своего времени антиэстетическим манифестаторством. Искусство само по себе — это «жонглерство, акробатизм, циркачество, техника ради техники, то есть трюкачество. <…> фокусничество, в существе которого лежит обман лицедейства, фальшь в глубоком смысле этого слова, надувательство и дурачество по сути своей, или некоторая детскость и наивность, присущие игре» (31—32). «Присутствие сатаны нигде так не очевидно, как именно в театре» (34) и т. д. и т. п. Всё это можно было бы и не приводить здесь как некий специфический анахронизм своего рода религиозного манифестарного антиавангардизма, выдержанного в авангардистском же духе начала XX в. (чего тогда только не писали и не говорили в пылу бесконечных полемик), если бы сам Тарабукин не настаивал на серьезности и значительности этих утверждений, и если бы они вдруг не всплыли в конце XX в. в постсоветский период в среде православных неофитов, рьяно взявшихся (в который уже раз в истории христианства) за противопоставление религии светской культуре, светскому искусству вплоть до анафематствования (неофициального, слава Богу) его приверженцев. Есть здесь, очевидно, какие–то глубинные скрытые закономерности движения культуры, и исследователь ни от чего не имеет права легкомысленно отмахнуться.
Приведя в пример позднего Гоголя, уничтожившего под влиянием религиозного прозрения второй том «Мертвых душ», знаменитого танцовщика Нижинского, обратившегося к религии и сошедшего со сцены в 1917 г., позднего Л. Толстого, резко порицавшего искусства за безнравственность с позиций христианского ригоризма, Тарабукин подчеркивает, что всякий раз интеллигентское сознание общества принимало поворот своих коллег от искусства к религии за умопомешательство или мракобесие. Наш же автор, напротив, считает означенный поворот духовным подвигом и прозрением, ибо в его представлении светские искусства достойны всяческого порицания за отсутствие в них «мировоззрения», истинной религиозной «идейности», за пропаганду порочности, греховности, цинизма и т. п. — в общем за «внутреннюю пустоту». Если бы современный человек руководствовался не беспринципной мирской эстетикой, а истинным «мировоззрением», он «принял бы «Троицу» Рублева, а Венере отрубил бы голову. Так поступали христиане первых веков» (38). И религиозный искусствовед начала XX в. солидарен с ними. Он резко отрицательно относится ко всему нерелигиозному искусству «от аттического Зевксиса до какого–нибудь современного Матисса» и утверждает, что «только религиозный человек и религиозное искусство полноценны» (42).
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Феномен иконы"
Книги похожие на "Феномен иконы" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Виктор Бычков - Феномен иконы"
Отзывы читателей о книге "Феномен иконы", комментарии и мнения людей о произведении.