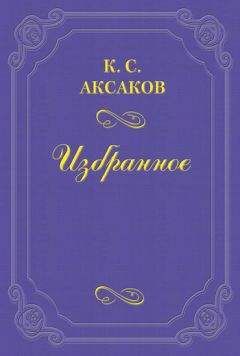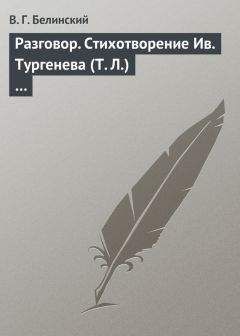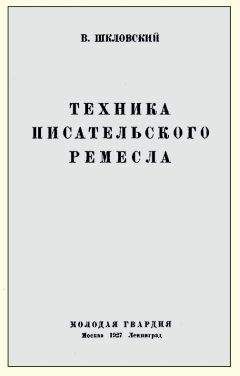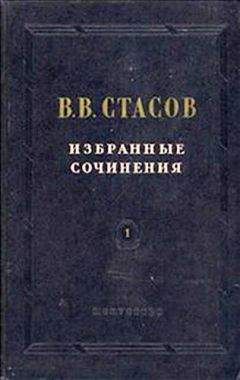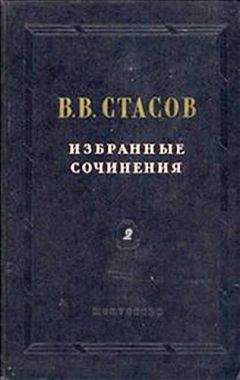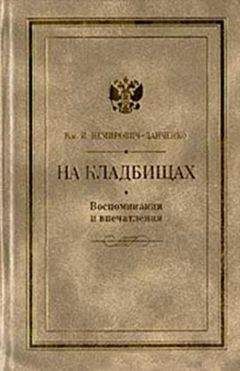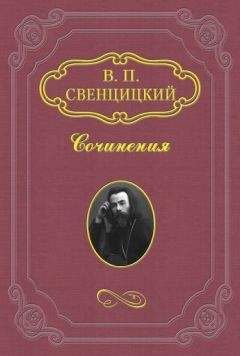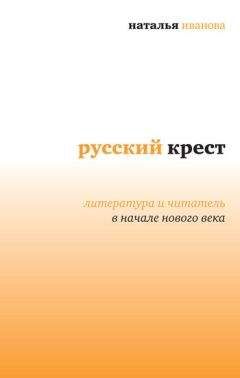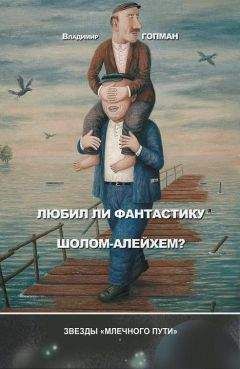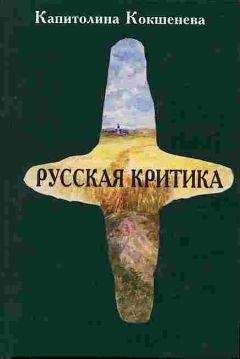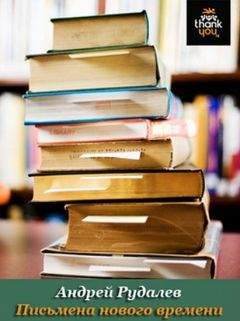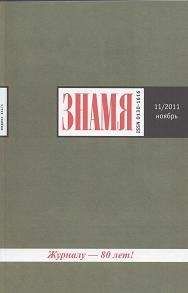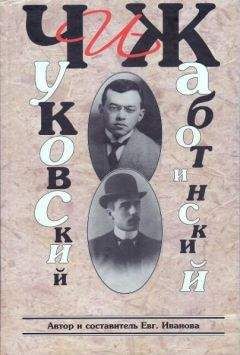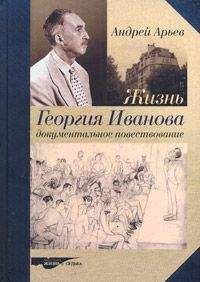Наталья Иванова - Точка зрения. О прозе последних лет
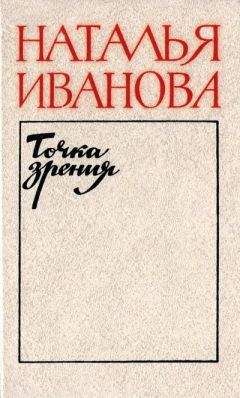
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Точка зрения. О прозе последних лет"
Описание и краткое содержание "Точка зрения. О прозе последних лет" читать бесплатно онлайн.
Критик Наталья Иванова известна своими острополемическими выступлениями. В ее новой книге ведется разговор об исканиях и «болевых точках» литературного процесса последних лет. В центре внимания писатели, вокруг которых не утихают споры: Юрий Трифонов, Чингиз Айтматов, Виктор Астафьев, Василь Быков, Фазиль Искандер, Андрей Битов, Валентин Распутин, Владимир Маканин.
Вот, скажем, фраза, открывающая очередную повесть: «Еще вчера влачить жизнь далее казалось невмоготу, и мысль о неизбежности смерти, сжимавшая сердце, ласкала воображение» (Е. Парнов. «Пылающие скалы»). Это произведение как нельзя более должно было бы соответствовать новейшему теоретическому тезису о преимуществах сочетания познавательности с развлекательностью. Е. Парнов известен читателю как публицист и очеркист, автор популярных книг, выполненных в документальном жанре. Владея богатыми сведениями из разных областей жизни, Е. Парнов попытался их соединить в произведение беллетристическом.
Героиня, старший научный сотрудник и автор сорока печатных работ, женщина с «хризолитной чистотой вечно молодых», «завлекательных глаз», претерпевает «очередное кораблекрушение»: «шесть месяцев назад разбился на острых житейских рифах ее второй брак». Дама крепкая и эмансипированная, оснастившая кухню — вместо мясорубки — бинокулярным микроскопом, Светлана Андреевна отправляется в командировку на Дальний Восток, где встречает приехавшего из Москвы на подводную охоту Кирилла Ланского. Он — соискатель-мэнээс из проблемной лаборатории по прямому восстановлению железа. Научная работа его, как и работа Светланы Андреевны, по-своему сверхсовременна.
Я извлекла при чтении этой повести массу новых познаний, касающихся головокружительных сфер действительности. Автор перенесет нас в Монголию. Опустит на океанское дно в батискафе. Проинформирует о том, что простейшие бактерии существуют повсюду, даже в радиоактивных породах. Что голубой тон на веках помогает сгладить морщинки, что сила света изменяется от степени прозрачности среды, что у монголов считалось страшным грехом копать землю… Диалоги героев тоже очень познавательны: «— В последнее время я как-то охладел к токсинам… Думаю переключиться на медносодержащую органику. — Вы совершенно правы. Там, где переносчиком кислорода в крови служит не железо, а медь, могут таиться такие резервы, о которых мы даже не подозреваем». Раньше Рауль вытаскивал леворверт, вот и вся обстановка; теперь — НТР, век информации: «Рассеянно пропуская сквозь пальцы кремние-органический шланг, по которому в склянки Тищенко медленно пробулькивался аргон, Ланской понял…», «установка… перестала гудеть и булькать». Вам скучно? Не грустите: эту познавательность с лихвой расцветит развлекательность: герои конечно же обретут друг друга в «круговороте жизни»: «Из воды выходила женщина. Золотоволосая, стройная и нагая. Искрометно горели капли на ее загорелых плечах, и легкая пена ласкала узенькие лодыжки». Потроша мидий Грэя и занимаясь биологическими опытами («Рунова догадалась, что видит защитную оболочку, оберегающую оплодотворенную икру от новых сперматозоидов»), Светлана Андреевна отныне будет испытывать симпатию к герою, но спервоначала откажется выходить за него замуж; однако, чуть не расставшись с жизнью из-за ядовитого ожога медузы-гонионемы, героиня решает: «Я ведь женщина. Надо идти, куда поведут, верить надо». Таким тривиальным итогом завершаются все перипетии.
Острый сюжет, с «любовью» и смертельной опасностью, должен, видимо, эмоционально компенсировать познавательность. Однако никакая познавательность или развлекательность не делают прозу поистине интересной — ибо ничего нет для человека на свете интереснее и загадочнее… человека, а именно этой истиной и пренебрегают многие авторы, демонстрирующие свои богатые познания в разных областях жизни.
Реальность, с которой нельзя не считаться, состоит в том, что целое направление в развитии «комфортного» искусства (а не только литературы) привлекает определенного читателя и зрителя экзотичностью, псевдояркостью, ложной сентиментальностью, непохожестью на его обыденную жизнь. Раньше стены изб порой украшались репродукциями классической живописи — особенно популярны были брюлловская «Всадница» и «Неизвестная» Крамского, — сейчас они бывают обклеены и репродукциями картин современных художников, тиражируемых все тем же еженедельником. Познакомлю вас с некоторыми сюжетами (кстати, отмечу, что и в живописи такого рода ценится прежде всего сюжетность, литературность, она иллюстративна по своей природе). Седенький, очень чистенький, отмытый, благостный старичок с бантом вместо галстука в креслах, рядом — скрипка, а на коленях старичка — собачка благородных кровей, но тоже очень старенькая и печальная. Благородная старость. Другая: на ней изображена девочка с личиком куклы, чуть ли не в кисейном платьице, с распущенными по плечикам волосиками, с бантом, в маленьких ручках — кукла. Прелестное детство. Все это выписано с необычайной и даже, я бы сказала, щегольской тщательностью. Еще что важно: поразить воображение чем-то непривычным. Скажем, придать высокопоставленной зарубежной даме черты иконописной великомученицы. Такая вот контаминация. Какие чувства вызывают эти картины у массового зрителя? На что они рассчитаны (а они-таки рассчитаны, и очень точно)? Принцип, о котором говорилось выше в связи с литературою, остается тем же — адаптация жизни, выборка из нее сладеньких, умилительных либо щекотливых моментов. Константин из «романа-мечты» с его «девушкой-березкой» и художники Л. Шилов и И. Глазунов, сюжеты картин которых я изложила, — братья по духу.
Чтобы привлечь читателя, любящего приключения (а кто их не любит — даже Ахматова, по словам Наталии Ильиной, признавалась: «Вечер с детективом — это прекрасно!»), можно, например, дать такой подзаголовок своему сочинению: «приключенческая повесть» («Нежилой дом» М. Петрова). Ее герои, искусствоведы и историки, отправляются в деревню в поисках иконы, «приписываемой чуть ли не самому Андрею Рублеву». Повесть построена так, что заранее понимаешь — искомая икона обнаружится, но в руки к искателям не попадет. Так в конце концов и получается. Но словно для того, чтобы оправдать определение «приключенческая», М. Петров постоянно прибегает к надуманным фабульным поворотам: «запорожец», на котором едут новоявленные искатели иконы, местные жители почему-то путают с «жигулями», на которых разъезжают тайные скупщики краденого (хотя сейчас и ребенок отличит одну марку от другой) — оказывается, Бледное, заведующий районным Домом культуры, приторговывает уникальными предметами старины, присвоенными им из музейных фондов, которые упорно собирает некий Аникин, сын того Аникина, что разорял графскую усадьбу и проводил коллективизацию. Аникин-старший вычеркнут из памяти односельчан, могилу его и родная жена знать не желает; однако сын (которого отец мечтал видеть продолжателем своего дела), как бы искупая отцовские грехи, создает в Холмецах музей (собирает то, что отец уничтожал).
Автору нельзя отказать в определенной живости пера в сценах купли-продажи старинной утвари, эпизодах с продажной дамочкой, привезенной специально для ублажения Бледнова; в описании супергероев-«захватчиков», погони на автомобиле по нечерноземным дорогам… Здесь и поражающие воображение местного пастуха красненькие кредитки, плывущие по тихой речке, и влетевшая в дом шаровая молния, и пожар, и стрельба… Но привлечет ли эта занимательность внимание читателя к реальным проблемам сохранения старины? Мне возразят — повесть-то «приключенческая», автор ни поисками причин происходящего, ни социальным объяснением зла заниматься и не собирался. Но тогда какова цель этого сочинения? Неужели только развлечь читателя описанием пейзанских красот, пикантных ситуаций и дикости нравов чиновников районного масштаба? Нет, я полагаю, что цель у автора была, и цель вполне достойная — заставить читателя задуматься над гибнущей на нашем веку красотой — будь то икона, пейзаж или деревянная скульптура. Но эта, высшая цель оказалась погребенной под перекрестным огнем ситуаций, лишенных, кстати, какой бы то ни было сюжетной грации. Уж чего-чего, а приключений интересных, естественных и живых в повести М. Петрова нет — от всех этих погонь, стрельб и проваливаний в тартарары отдает натужной, неестественной напряженностью. Свободный и изящный (не побоимся этого старинного слова) вымысел, изобретательность сюжета чужды автору «Нежилого дома».
Я думаю, что эпитет «приключенческий» для М. Петрова — своего рода спасительная индульгенция, которой он прикрывает и неразработанность характеров, и калейдоскопическую необязательность эпизодов, и чисто водевильный подход к сложной, драматической проблеме.
Еще в середине 30-х годов прошлого века Гоголь писал: «Литература должна была обратиться в торговлю, потому что… потребность чтения увеличилась».
«Развлекательная» беллетристика быстро создается по торговым законам «массового спроса». Все для нее может стать предметом использования: и естественная жажда человеческих чувств, и историческая малообразованность публики, и драматическая судьба известного художника, и подвиг исследователей, и экстремальные жизненные ситуации. Но «комфортное» искусство только спервоначалу может показаться, так сказать, поведенчески нейтральным. Оно агрессивно. Расползаясь метастазами, оно занимает и на страницах журналов, и на выставках, а самое главное — в умах и душах читателей место, по праву принадлежащее настоящему. Наркотическая же привычка читателя к такому роду «искусства» постепенно становится дурной. Давая информацию (кстати, ничто так не ценится практичным западным читателем, как наукообразная беллетризованная познавательность), такая «литература», такое «искусство» выключают мышление. Ведь разгадывание кроссвордов, как известно, не прибавляет человеку ума. «Должно показать, в чем состоит обман, — продолжал Гоголь. — …Что литератор купил себе доходный дом или пару лошадей, это еще не беда; дурно то, что часть бедного народа купила худой товар и еще хвалится своею покупкою».
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Точка зрения. О прозе последних лет"
Книги похожие на "Точка зрения. О прозе последних лет" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Наталья Иванова - Точка зрения. О прозе последних лет"
Отзывы читателей о книге "Точка зрения. О прозе последних лет", комментарии и мнения людей о произведении.