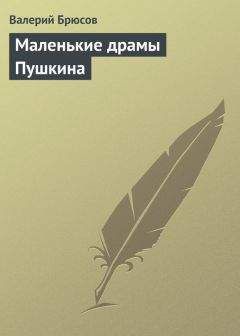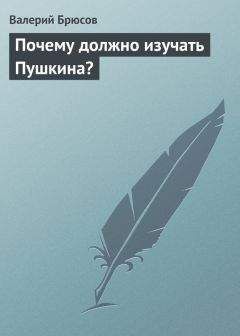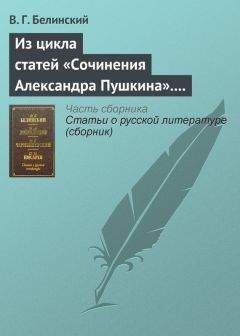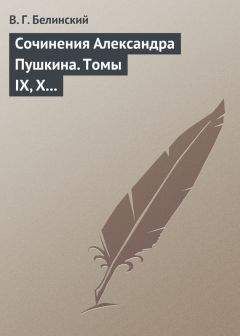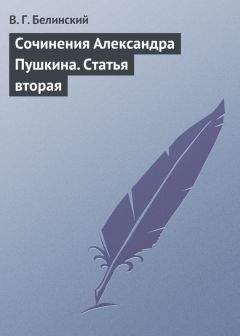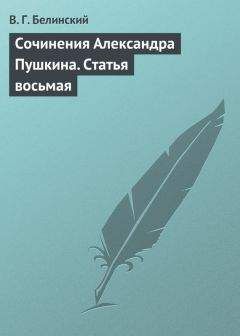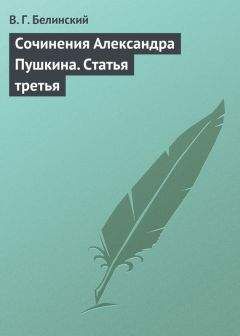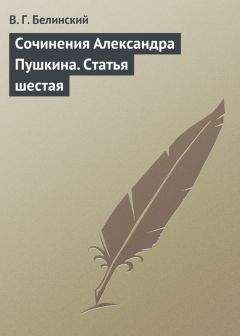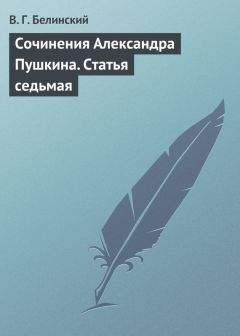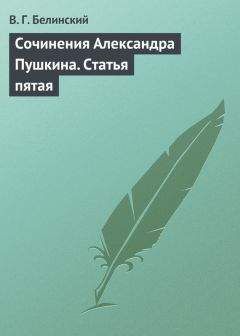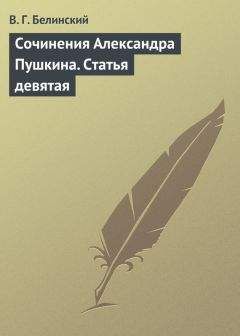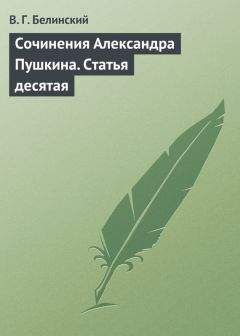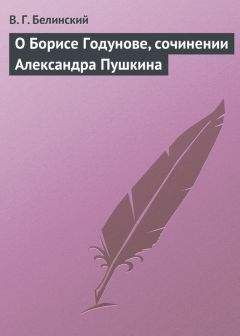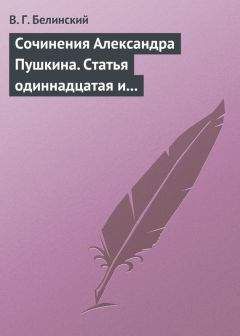Владимир Набоков - Комментарии к «Евгению Онегину» Александра Пушкина

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Комментарии к «Евгению Онегину» Александра Пушкина"
Описание и краткое содержание "Комментарии к «Евгению Онегину» Александра Пушкина" читать бесплатно онлайн.
Комментарии В. В. Набокова освещают многообразие исторических, литературных и бытовых сторон романа. Книга является оригинальным произведением писателя в жанре научно-исторического комментария. Набоков обращается к «потаенным слоям» романа, прослеживает литературные влияния, связи «Евгения Онегина» с другими произведениями поэта, увлекательно повествует о тайнописи Пушкина.
Предназначена для широкого круга читателей и в первую очередь — для преподавателей и студентов гуманитарных вузов, а также для учителей и учащихся средней школы.
10 Сгорая негой и тоской. Оба существительных несут на себе точно не определимый отпечаток романтической стилистики, столь часто встречающейся в «ЕО» и столь трудно поддающейся аутентичному английскому переводу. «Нега» может означать очень многое: расслабляющую мягкость (фр. «mollesse»), т. е. роскошество и изнеженность, различные стадии любовного томления («douce paresse») и, наконец, самое откровенное чувственное наслаждение (фр. «volupté»). Переводчику следует остерегаться в английской версии той чрезмерности, которой сам Пушкин едва избегает по-русски, заставив свою деву томиться всеми французскими разновидностями истомы, терзающей плоть и воображение.
«Тоска» — емкое понятие, передающее чувство физической или метафизической неудовлетворенности, покинутости и одиночества, неотступной тревоги, несчастья, которое сводит с ума, душевной взвинченности, от которой некуда деться (см. также коммент. к главе Третьей, XIV, 9–10).
10, 12 негой… тоской… томленье. Три излюбленных пушкинских слова — собраны в этих строках.
14 Душа ждала… кого-нибудь. Не слишком удавшаяся строка; оттенок цинической легкости оставляет чувство, что мысль выражена плоско и неизобретательно.
Мой дословный перевод не рассчитан на чтение вслух и не ставит целью воссоздание всех оттенков перелагаемого текста, что часто, но без всякой необходимости делается, тогда как единственной заботой должна быть текстуальная точность, а музыка допустима лишь в той мере, насколько она не ослабляет ясности смысла.
VIII
И дождалась. Открылись очи;
Она сказала: это онъ!
Увы! теперь и дни, и ночи,
4 И жаркій, одинокій сонъ,
Все полно имъ; все дѣвѣ милой
Безъ умолку волшебной силой
Твердитъ о немъ. Докучны ей
8 И звуки ласковыхъ рѣчей,
И взоръ заботливой прислуги.
Въ уныніе погружена,
Гостей не слушаетъ она,
12 И проклинаетъ ихъ досуги,
Ихъ неожиданный пріѣздъ
И продолжительный присѣстъ.
7 Твердит. См. коммент. к главе Второй, XXX, 7.
IX
Теперь съ какимъ она вниманьемъ
Читаетъ сладостный романъ,
Съ какимъ живымъ очарованьемъ
4 Пьетъ обольстительный обманъ!
Счастливой силою мечтанья
Одушевленныя созданья,
Любовникъ Юліи Вольмаръ,
8 Малекъ-Адель и де Линаръ,
И Вертеръ, мученикъ мятежной,
И безподобный Грандисонъ,
Который намъ наводитъ сонъ,
12 Всѣ для мечтательницы нѣжной
Въ единый образъ облеклись,
Въ одномъ Онѣгинѣ слились.
3–4 и Х, 5 Ср.: Мэри Хейс. «Мемуары Эммы Кортни» (1796) т. 1, гл. 7: «… в руки мои попала „Элоиза“ Руссо. — О, с каким глубоким чувством… погрузилась я в чтение этой опасной, этой притягательной книги!»
4 обман. Иллюзия, вымысел, а также туман, мистификация. Пушкин с филологической виртуозностью использует все оттенки этого слова (см. главу Вторую, XXIX, 3).
7 Любовник Юлии Вольмар Не точно, она звалась Юлия д'Этанж, а не Вольмар, когда стала возлюбленной «Сен-Пре» (такое прозвище ее приятельница Клара д'Орб дает выступающему без имени персонажу, за которым скрыт автор). Имеется в виду роман «Юлия, или Новая Элоиза. Письма двух любовников, живущих в маленьком городке у подножия Альп. Собраны и изданы Ж. Ж. Руссо» (Амстердам, 1761, 6 томов).
Юлия, «blonde cendrée» <«блондинка с пепельным оттенком»> (оттенок, который был очень в ходу и впоследствии, когда требовалось изобразить чувствительную героиню, такую, например, как Клелия Конти в «Пармской обители», 1839, Стендаля), с нежными лазурно-голубыми глазами, золотистыми веками, прекрасными руками и ослепительным цветом лица, дочь барона д'Этанжа, который, случалось, наносил ей побои (ч. 1, письмо LXIII). Сен-Пре — частный учитель, «человек среднего сословия, без средств». О его внешности нам мало что сообщается, мы знаем только, что у него неважно со зрением («близорук и не могу поступить на военную службу», — ч. 1, письмо XXXIV; прием, впоследствии много раз использованный другими авторами). Его ученица отдается ему на одну ночь, ясно осознавая смысл своего поступка. Она заболевает (оспа). Он покидает Европу, проведя три или четыре года в совершенно лишенной зримых примет Южной Америке. Последняя часть романа живописует его возвращение, жизнь Юлии замужем и ее смерть.
Юлия выходит за г-на де Вольмара (изощренная форма имени Вольдемар), польского аристократа, за плечами которого пятьдесят зим, воспитанного то ли по неразумию, то ли в силу осмотрительности своего родителя «в греческой вере», а не в римско-католической, как большинство поляков; одно время был в ссылке в Сибири, потом сделался вольнодумцем. Задумываешься о том, какие чувства пробудили в Татьяне Лариной подстрочные (восхитительные) примечания Руссо по поводу гонений за веру, а также такие его эпитеты, как «смехотворный культ» или «глупое ярмо», — в тех случаях, когда речь идет о православии, к которому принадлежала она сама. (Существовал подчищенный и искромсанный русский «перевод», который появился в 1760-е годы, однако, — факт, не принятый во внимание большинством комментаторов, — Татьяна читала роман по-французски).
Оспа, которая впоследствии для того ли, чтобы придать драматизм сюжету или чтобы вызвать сочувствие читателей, сделалась болезнью стольких превосходных персонажей (кто забудет глаз, которого в «Опасных связях» Шодерло де Лакло лишилась мадам де Мертей, или ужасные затруднения, которые испытывал Диккенс под конец «Холодного дома», почти непоправимо испортив внешность Эстер Саммерсон!). Именно эта болезнь передается Сен-Пре от больной Юлии, чью руку он поцелован, прежде чем пуститься в свое «voyage autour du monde» <«кругосветное путешествие»>, из которого он вернется с изуродованным лицом, «orottu» <«щербатым»> (ч. IV, письмо VIII). Наружность же Юлии болезнь пощадила, если не считать того, что она порою чуть краснеет. Он тревожится — узнают ли они друг друга, но тревога напрасна — и вот Сен-Пре предоставлено вволю насладиться творогом с кислым молоком в доме Юлии де Вольмар, в руссоистском царстве яиц «laitages» <«молочных смесей»>, овощей, форели и вина, щедро разбавляемого водой.
Со стороны художественной, роман представляет собой весьма жалкое сочинение, но в нем встречаются отступления, не лишенные некоторого исторического интереса, а содержащимися в нем сведениями о самом авторе с его болезненными, путаными, но в то же время и довольно наивными мнениями никак не следует пренебрегать.
Есть заслуживающая внимания сцена шторма на Женевском озере (ч. IV, письмо XVII), разыгравшегося во время прогулки на хрупкой лодочке («утлом челне»), вверенной заботам пяти гребцов (Сен-Пре, слуга и трое местных профессионалов). Юлия ужасно страдает от волн, но ее присутствие всем необходимо: она «ободряла нас своими неустанными ласковыми заботами, всем без различия она вытирала влажные лица; смешав в сосуде (!) вино с водой, чтобы мы не опьянели (!), она по очереди поила самых изнуренных» <пер. Н. Немчиновой> (из этого пассажа явствует, что «утлый челн» то и дело накренялся из-за поднявшейся суматохи).
Постоянно чувствующаяся в романе забота автора о том, как бы кто-нибудь не выпил лишнего, особенно примечательна: после того как Сен-Пре, сильно опьянев, как-то позволил себе в присутствии Юлии ужасные выражения (ч. I, письмо LII), она принудила героя «умеренно пить вино и разбавлять его прозрачной ключевой водой». Однако, попав в Париж, Сен-Пре вновь поддается искушению и, не осознав, что собутыльники привели его в бордель (о чем он с подробностями пишет Юлии), принимает белое вино за воду; придя же в чувство, он с изумлением обнаруживает себя «в уединенной комнате, в объятиях одной из девиц» (ч. II, письмо XXVI). После спасения своего младенца Марселина, который едва не утонул в озере, Юлия тихо угасает от перенесенного потрясения, — это одна из самых искусственных сцен во всей книге. Героиня оставляет мир как истинный Сократ с пространными речами, съехавшимися гостями и изрядным количеством спиртного: в свои последние часы она едва не отравилась алкоголем.
Эпистолярный роман, столь модный в восемнадцатом столетии, получил для себя такой стимул к развитию, поскольку, видимо, увлекала довольно странная идея, сводящаяся (как сказано поэтом Колардо в «Любовном письме Элоизы Абеляру», ок. 1760) к тому, что «искуство писать, без сомнения, изобретено / Томившимся в плену иль сожигаемым страстью любовником»; у Поупа в «Послании Элоизы Абеляру» (1717, строки 51–52) по этому же поводу сказано, что
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Комментарии к «Евгению Онегину» Александра Пушкина"
Книги похожие на "Комментарии к «Евгению Онегину» Александра Пушкина" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Владимир Набоков - Комментарии к «Евгению Онегину» Александра Пушкина"
Отзывы читателей о книге "Комментарии к «Евгению Онегину» Александра Пушкина", комментарии и мнения людей о произведении.