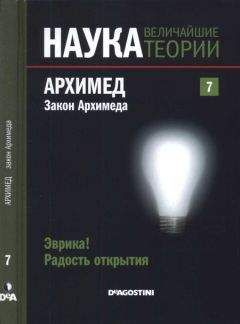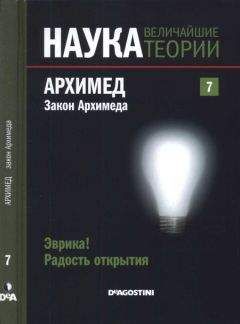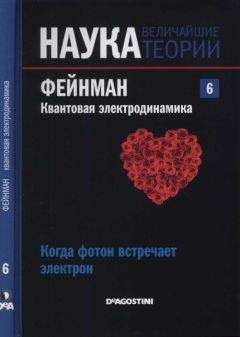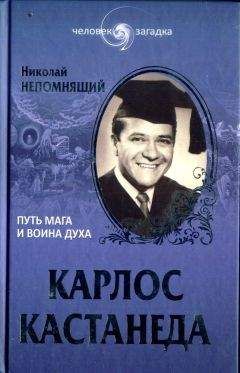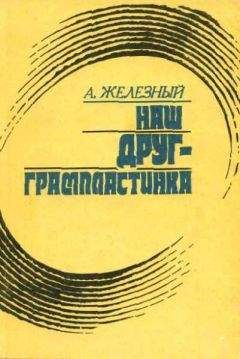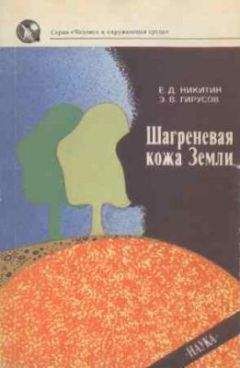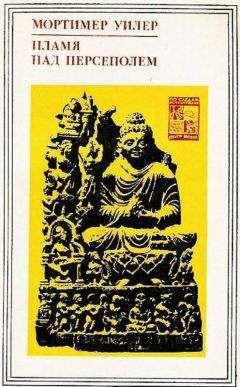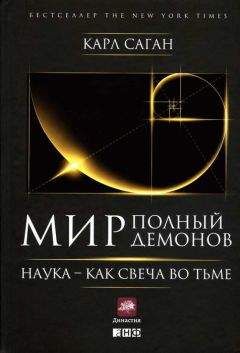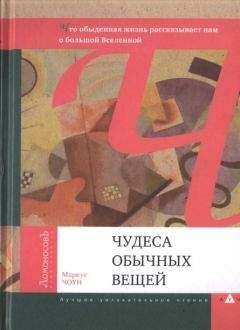Виолетта Гайденко - Западноевропейская наука в средние века: Общие принципы и учение о движении

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Западноевропейская наука в средние века: Общие принципы и учение о движении"
Описание и краткое содержание "Западноевропейская наука в средние века: Общие принципы и учение о движении" читать бесплатно онлайн.
В книге на фоне широкого социокультурного контекста раскрывается процесс становления и развития научного знания в средние века. Подробно анализируется формирование стиля научного мышления, показывается преемственность науки средневековья и нового времени.
Для специалистов в области истории науки и культуры, логики и методологии научного познания.
Но если вещь — это множество форм, объединенных общим субстратом, то она не может быть чем-то единым. Боэций прямо так и формулирует: всякая вещь «есть и то, и то, т. е. сумма своих частей»,[78, 10]. Хотя Аристотель, вводя понятие сущности, пытался обосновать внутреннее единство признаков вещи, тем не менее Боэций совершенно прав, усматривая в аристотелевской концепции вещи отсутствие подлинного единства.
Напомним вкратце основные пункты аристотелевского определения понятия сущности.
Сущность, по Аристотелю, — это и сама вещь, и материя, и форма. Ее главная логическая характеристика состоит в том, что она является значением субъекта высказывания, которому приписываются предикаты. Но любой предикат характеризует свойство (признак) вещи. Приписывание признака как бы делит вещь на этот признак и то, что есть вещь без него, т. е. основу вещи, которая как бы «держит» признак при себе, связывает его в вещи. Основа всех признаков, субстрат, «материя» вещи связывает в вещи все признаки, но и лишена всяких признаков, неопределенна. С этой точки зрения именно неопределенный субстрат и предстает как сущность. «В самом деле, если материя несущность, то от нас ускользает, что бы еще могло быть ею; когда мы подряд отнимаем все другие определения, не видно, чтобы что-нибудь стойко оставалось… и скорее уж то, чему как первой основе все такие свойства принадлежат, это вот есть сущность…
В самом деле, существует нечто, о чем сказывается всякое такое определение [и] у него — бытие другое, нежели у каждого из [категориальных] высказываний (все другие определения сказываются о сущности, а сущность — о материи), поэтому самое последнее, [что лежит у всего другого в основе], если его взять само по себе, не будет ни определенным по существу, ни определенным по количеству, ни чем бы то ни было другим… Так вот (из этих соображений. — Авт.)… оказывается, что сущностью является материя» (Метафизика, 1029а 11—26) [8, 115]. Но это приводит к противоречию, потому что тогда субъекта как такового нет в силу его полной неопределенности. «Ведь и способность к отдельному существованию и данность в качестве вот этого определенного предмета считаются главным образом отличительными чертами сущности, а потому форму и то, что состоит из обоих начал, скорее можно бы было признать за сущность, нежели материю» (Метафизика, 1029а 27—29) [там же].
Таким образом, понимание материи как значения субъекта высказывания улавливает один аспект предикации, аспект выделения и связывания признака. Но подлежащее (основа признаков), чтобы быть подлежащим, должно быть чем-то. Поэтому форма или, скорее, «суть бытия» вещи как носитель того, что есть вещь (ее «чтойности»), также должна выступать как подлежащее. Поэтому возможно знание сущности. «Знание той или иной вещи мы ведь имеем тогда, когда мы узнали суть ее бытия» (Метафизика, 1031 в б—7) [8, 120]. Знать можно именно суть бытия, чтойность вещи, так как это именно и есть то, что в существующей вещи соответствует ее определению, набору ее существенных признаков. Сущностью, наконец, является и отдельная существующая вещь.
Анализ понятия сущности убеждает в том, что столь различный подход к его определению был не случаен: оно использовалось в метафизике Аристотеля в разных смысловых контекстах и было введено для достижения сразу нескольких целей. Во-первых, для объяснения того факта, что отличительная («существенная») характеристика той или иной вещи или явления может включать в себя одновременно несколько признаков (например, для человека — «быть разумным» и «быть животным»). Это является основанием для приписывания одному и тому же субъекту высказывания различных предикатов, как бы раскрывающих содержание, в свернутом виде заключенное в субъекте. Поскольку концептуально постижимое содержание вещи совпадает с набором ее свойств, фиксируемых предикатами, то использование понятия сущности для обозначения этого содержания наложило соответствующий отпечаток на его трактовку.
В одном из приведенных толкований оно отождествляется с сутью бытия вещи, прозрачной для мышления, с ее формой, мыслимой как единство существенных признаков.
Во-вторых, в связи с необходимостью раскрыть механизм, с помощью которого в одной вещи объединяются несколько свойств. Для этого недостаточно просто постулировать единство признаков, как в первом случае, а надо показать, как единство совмещается с многообразием. Выделение любого признака означает фиксацию того, чем вещь обладает, но что отлично от самой вещи. Признаки вещи соответствуют предикатам высказывания, а сама вещь — субъекту. Поэтому признаки должны приписываться основе, не являющейся признаком, подобно тому как предикаты приписываются субъекту. Но основа без признаков не имеет никаких определений, совпадая в этом отношении с материей. Аристотелевский термин «подлежащее», используемый для обозначения основы вещи — носителя свойств, включает в себя и значение материального субстрата.
Но в то же время Аристотель считает невозможным полностью отождествить с материей значение субъекта высказывания, потому что неопределенность концептуального содержания последнего, вытекающая из невозможности приписать ему какое-либо свойство, сочетается с реализуемостью конкретного указания на «вот этот предмет», представляющий собой хорошо различимую точку бытия. Поэтому, несмотря на момент неопределенности, отличающий его от предшествующего «формального» определения, определение сущности в качестве основы, связывающей воедино (посредством «присущности» признаков этой основе) многообразие свойств вещи, является определенным в другом, экзистенциальном, смысле. Как будет показано в 2.5, на эту сторону в определении понятия сущности опирается Боэций при разработке онтологических проблем в трактате Quomodo substantiae. В трактате же «О Троице», как мы видели, он апеллирует, для обоснования возможности предикации, к материальному субстрату.
Таким образом, если в целях классификации, отвечая на вопрос, что собой представляет та или иная вещь, Аристотель прибегает к «формальному» определению сущности, то при выявлении механизма объединения признаков он вынужден апеллировать к «материальному» и экзистенциальному определениям этого понятия.
Итак, для того чтобы определить, что собой представляет вещь, т. е. какова ее сущность, необходимо, согласно Аристотелю, перечислить родовые и видовые признаки, входящие в данное понятие, иначе говоря, указать все те абсолютные определенности («формы», по терминологии Боэция), которым причастна данная вещь. Боэций справедливо утверждает, что неизменные, самотождественные «формы» в принципе не могут соотноситься друг с другом. Поэтому он апеллирует к материальному субстрату, что в данном контексте равносильно введению постулата о том, что объединение отдельных признаков в вещи каким-то образом осуществляется.
Поскольку назвать можно только ту или иную форму, — все, что идет от материи, не имеет имени (это убеждение Аристотель полностью разделяет с Платоном), о материи, о материальном субстрате мы вообще ничего не можем сказать. Сказать, что признаки объединены материей, значит утверждать, что мы не знаем и не можем знать, каким образом это происходит, значит отказаться от попыток действительного решения проблемы многообразия. Трудности, присущие аристотелевой концепции вещи, дали толчок к постановке проблемы множественности форм, интенсивно обсуждавшейся средневековыми мыслителями: в чем же все-таки может быть найдено концептуально выразимое основание единства вещи.
Итак принцип тождества задавал членение универсума на онтологические единицы одного уровня, соответствующие значениям единичных[41] и общих понятий. Кроме того, он выступал и в качестве исходного пункта при объяснении любого явления.
Способы объяснения, опирающиеся на принцип тождества, в античности разительно отличаются от принятых в новое время. Если для человека нового времени объяснить что-либо — это показать как внутреннее соотношение его частей, так и отношение к другим объектам, то для античного (и схоластического) мышления объяснение равносильно указанию на неделимую определенность, на специфическое «одно», которому причастно объясняемое явление. Особенно наглядно это различие объяснительных принципов обнаруживается при сопоставлении античной (в частности, аристотелевской) концепции причинности с понятием причины, разработанным в новое время. Аристотель, как известно, выделил четыре вида причин: формальную, материальную, целевую и действующую. Формальная причина — это и есть то специфическое «одно», благодаря причастности которому вещь становится тем, что она есть. Материальная причина означает то, что может принять форму, т. е. она вводится опять-таки через указание «одного» (формы). Материя — это то, что еще не стало «одним». Целевая причина вещи — это «одно», рассматриваемое как должное состояние вещи, как то, чем она должна стать (например, целевая причина для семени дерева — само дерево).
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Западноевропейская наука в средние века: Общие принципы и учение о движении"
Книги похожие на "Западноевропейская наука в средние века: Общие принципы и учение о движении" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Виолетта Гайденко - Западноевропейская наука в средние века: Общие принципы и учение о движении"
Отзывы читателей о книге "Западноевропейская наука в средние века: Общие принципы и учение о движении", комментарии и мнения людей о произведении.