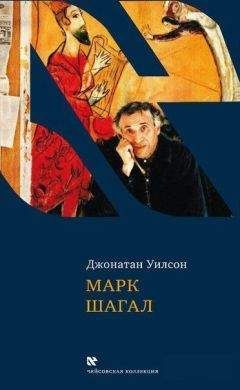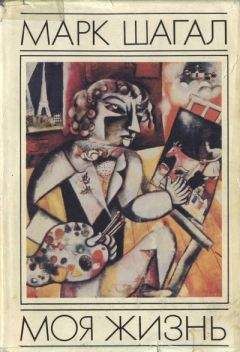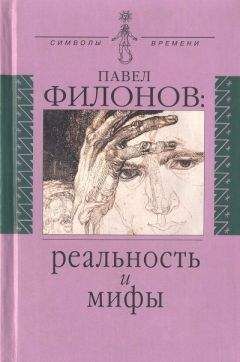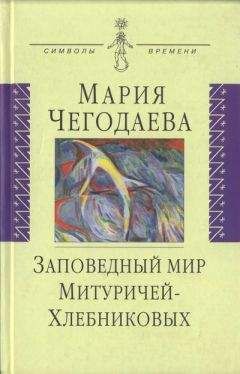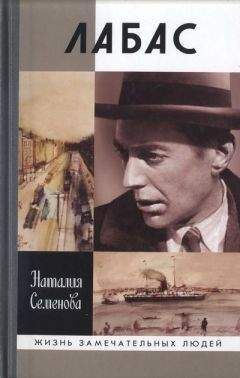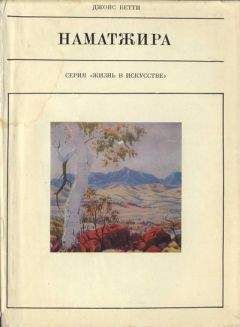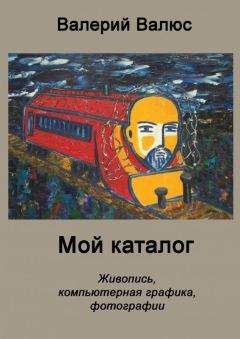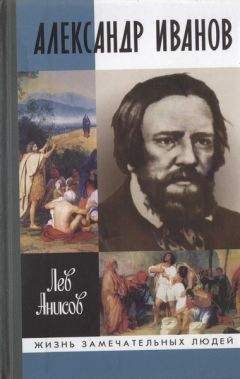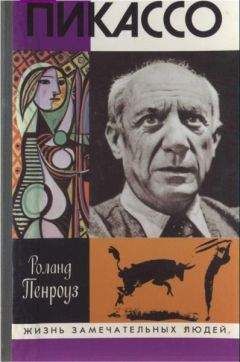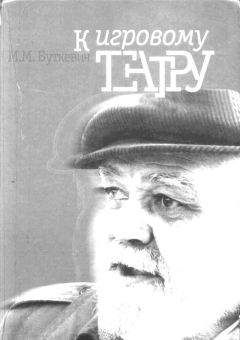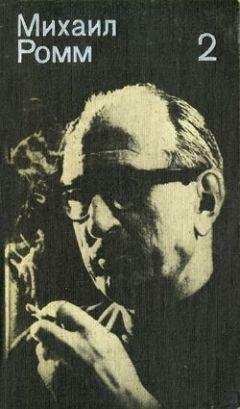Михаил Нестеров - О пережитом. 1862-1917 гг. Воспоминания
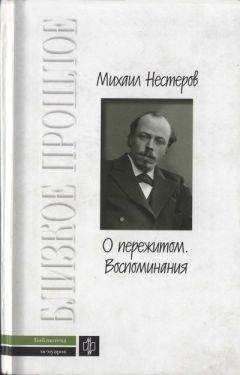
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "О пережитом. 1862-1917 гг. Воспоминания"
Описание и краткое содержание "О пережитом. 1862-1917 гг. Воспоминания" читать бесплатно онлайн.
Мемуары одного из крупнейших русских живописцев конца XIX — первой половины XX века М. В. Нестерова живо и остро повествуют о событиях художественной, культурной и общественно-политической жизни России на переломе веков, рассказывают о предках и родственниках художника. В книгу впервые включены воспоминания о росписи и освящении Владимирского собора в Киеве и храма Покрова Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве. Исторически интересны впечатления автора от встреч с императором Николаем Александровичем и его окружением, от общения с великой княгиней Елизаветой Федоровной в период создания ею обители. В книге помещены ранее не публиковавшиеся материалы и иллюстрации из семейных архивов Н. М. Нестеровой — дочери художника и М. И. и Т. И. Титовых — его внучек.
Особенно, говорят, когда я выставил своего «Сергия с медведем»[139], Николай Николаевич Ге был страстным его хулителем, и картина едва была принята на выставку, и если и прошла, то только потому, что за нее не менее страстно говорил покойный Архип Иванович Куинджи. Спор был жаркий, я прошел на выставку лишь одним голосом.
Позднее я видел Ге еще два раза: один раз там же на Сергиевской — у Ярошенко, другой раз в Киеве — на улице.
Так же, как и тогда, когда был выставлен «Пилат», Ге привез на Передвижную — что, не помню. Как и тогда собралось много народа у Ярошенок. Был и я, теперь свой там человек. Звонок — открывают дверь, входит Николай Николаевич в армяке, засыпанный снегом, ни дать ни взять максимовский «Колдун на свадьбе»[140].
Весть, что пришел Ге, мгновенно облетела квартиру, и вот вижу в дверь из мастерской, как старика обступила куча молодежи, каких-то студентов, курсисток… С него благоговейно смахивают снег, кто старается над засыпанной снегом шапкой, кто сметает снег с валенок, и, проделавши эту часть туалета, снимают бережно с него армяк, а он, как архиерей во время облачения, только протягивает руки, повертывает голову и говорит, говорит, говорит. А его слушают — внимают ему. Разоблачив, его прямо через коридор провели в гостиную. Я скоро ушел и его в тот раз больше не видел.
Последний раз я его видел в Киеве в те дни, когда я расписывал Владимирский собор. Помню, мы сидели с Виктором Михайловичем Васнецовым на балконе на Владимирской улице. Мы отдыхали после рабочего дня, о чем-то лениво говорили, как вдруг Васнецов говорит: «Смотрите, ведь это едет Ге».
Я обернулся и увидел Николая Николаевича, ехавшего на извозчике в сторону Софийского собора. С ним на пролетке сидел почтительно, бочком, молодой человек, по виду художник. Николай Николаевич что-то оживленно ему говорил, и нам показалось, что на наш счет, так как смотрели оба на наш балкон. Ни он нам, ни мы ему не поклонились, и этот наш поступок мы не могли забыть и простить себе всю жизнь. Вызван же он был тем, что Ге с великой враждой относился к росписи Владимирского собора. Вскоре я узнал, что Ге скончался у себя на хуторе[141]…
Накануне дня, когда на выставке был Государь с семейством, бродил по залам выставки П. М. Третьяков. Он и еще два-три особо почтенных и сочувствующих передвижникам лица имели эту привилегию (Менделеев, Стасов, Григорович). Павел Михайлович уже кое-что приобрел, кое-что наметил для своей галереи. Бродил одиноко, смиренно, как всегда.
В это время перед моим «Варфоломеем» собрался ареопаг: Суворин, Стасов, Григорович и Мясоедов. Судили картину «страшным судом». Они все четверо согласно признали ее вредной, даже опасной в том смысле, что она подрывает те «рационалистические» устои, которые с таким успехом укреплялись правоверными передвижниками много лет; что зло нужно вырвать с корнем, и сделать это теперь же, пока не поздно. Но сделать это все же не так просто: картина, говорят, уже куплена Третьяковым в Москве для галереи. Однако дело так серьезно, что не следует останавливаться и перед этим, следует поговорить с Павлом Михайловичем, доказать, как он был опрометчив и что ему следует от картины отказаться. Сказано — сделано.
Пошли отыскивать по выставке московского молчальника, нашли где-то в дальнем углу, перед какой-то картиной. Поздоровались честь честью, и самый речистый и смелый — Стасов — заговорил первый. Правда ли, что Павел Михайлович купил картину экспонента Нестерова, что картина эта на выставку попала по недоразумению, что ей на выставке Товарищества не место, задачи Товарищества известны, картина же Нестерова им не отвечает. Вредный мистицизм, отсутствие реального, этот нелепый круг (нимб) вокруг головы старика… Круг написан, так сказать, в фас, тогда как сама голова поставлена в профиль. И что особенно прискорбно, что автор делает все это сознательно и никакого раскаяния в нем не видно. Павел Михайлович — друг Товарищества. Ошибки возможны всегда, но их следует исправлять. И они, его старые друзья, решили его просить отказаться от картины и тем самым показать молодому художнику его настоящую дорогу, дорогу к реализму. Много было сказано умного, убедительного. Все нашли слово, чтобы заклеймить бедного «Варфоломея».
Павел Михайлович молча слушал этих доброжелательных охранителей чистоты веры и тогда, когда слова иссякли, скромно спросил их, кончили ли они. Когда узнал, что они все доказательства исчерпали, ответил им так: «Благодарю вас за сказанное. Картину Нестерова я купил еще в Москве и если бы не купил ее там, то купил бы ее сейчас здесь, выслушав вас, ваши обвинения». Затем поклонился и тихо отошел к следующей картине.
О таком эпизоде в те дни мне передавал Остроухов, а позднее как-то в Москве, в кратком изложении, я слышал это от самого Павла Михайловича…
Накануне открытия, по обыкновению, посетил выставку Государь Александр III. Был очень внимателен, ласков, как всегда на выставках Товарищества, где любил бывать и говорил, что он у Передвижников отдыхает. Одобрил моего «Варфоломея», как год назад благосклонно отозвался о «Пустыннике». Сам день открытия обычно был праздником для передвижников.
С давних пор передвижники в день открытия выставки принимали, так сказать, у себя «весь Петербург», весь культурный Петербург. Кого-кого тут не бывало в такие дни. И это не был позднейшего времени «вернисаж», куда по особым пригласительным билетам практичные художники заманивали нужных им людей, покупателей. К передвижникам шли все за свой трудовой и нетрудовой четвертак. Тут были и профессора высших учебных заведений, и писатели, была и петербургская знать, были и разночинцы-интеллигенты. Все чувствовали себя тут как дома.
Передвижники были тогда одновременно и идейными вождями, и членами этой огромной культурной русской семьи 80–90-х годов прошлого века. Здесь в этот день выглядело все по-праздничному.
Многие из посетителей были знакомыми, друзьями художников — хозяев. Любезности, похвалы слышались то тут, то там. Сами хозяева, художники, были в этот раз как бы именинниками. Так проходил этот ежегодный художнический праздник. Многие из картин в этот день бывали проданными, и к золотым билетикам у картин, накануне приобретенных высочайшими особами, к билетикам третьяковских покупок прибавлялось немало новых.
Вечером, в день открытия выставки, бывал традиционный обед у старого «Донона»[142]. Часам к восьми передвижники, члены Товарищества, а также молодые экспоненты, бывало, тянулись через ворота вглубь двора, где в конце, у небольшого одноэтажного флигеля, был вход в знаменитый старый ресторан. Там в этот вечер было по-особому оживленно, весело. Старые члены Товарищества ласково, любезно встречали молодых своих собратьев, а также особо приглашенных, именитых и почетных гостей, всех этих Стасовых, Менделеевых, Григоровичей (Третьяков не имел обыкновения бывать там).
Лемох, с изысканностью «почти придворного» человека, встречал всех прибывавших, как распорядитель, и с любезно-стереотипной улыбкой, открывая свой серебряный портсигар, предлагал папиросу, говоря свое: «Вы курите?» — и мгновенно закрывал его перед носом вопрошаемого…
Обед чинный, немного, быть может, чопорный вначале, после тостов (пили сначала за основателей, за почетных гостей, пили и за нас — молодых экспонентов) понемногу оживлялся. Когда же кончались так называемые «программные» речи старейших товарищей, языки развязывались, являлась отсутствующая вначале теплота, задушевность. Более экспансивные переходили на дружеский тон, а там кто-нибудь садился за рояль и иногда хорошо играл. (Дам не полагалось.) Каждый становился сам собой. Хорошие делались еще лучше, те же, что похуже, вовсе распоясывались.
Последняя часть вечера, так часам к двенадцати, проходила в обмене разного рода более или менее искренними «излияниями». Михаил Петрович Клодт танцевал, сняв свой сюртучок, традиционный на этих обедах «финский» танец. Беггров рассказывал в углу скабрезные анекдоты. Н. Д. Кузнецов изображал «муху в стакане» и еще что-то. А его приятель Бодаревский делался к концу вечера глупей обыкновенного и более, чем когда-либо, оправдывал хорошо установившееся сравнение: «Глуп, как Бодаревский».
Так проходил и заканчивался ежегодный товарищеский обед передвижников.
На другой день выставка вступала в свой обычный, деловой круг. Если на ней бывала какая-нибудь сенсационная картина, так называемый «гвоздь», тогда народ на выставку валил валом, узнав об этом из утренних газет или от бывших накануне на открытии. Если такого «гвоздя» не было, то все же публика шла охотно к любимым своим передвижникам, как охотно читала она тогда любимых своих авторов. Передвижники тоже были «любимые авторы». Они тогда щедрой рукой давали пищу уму и сердцу, а не одному глазу и тщеславию людскому.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "О пережитом. 1862-1917 гг. Воспоминания"
Книги похожие на "О пережитом. 1862-1917 гг. Воспоминания" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Михаил Нестеров - О пережитом. 1862-1917 гг. Воспоминания"
Отзывы читателей о книге "О пережитом. 1862-1917 гг. Воспоминания", комментарии и мнения людей о произведении.