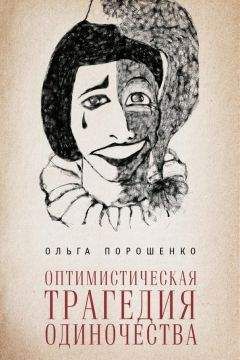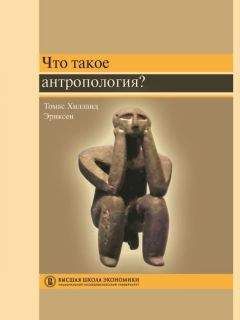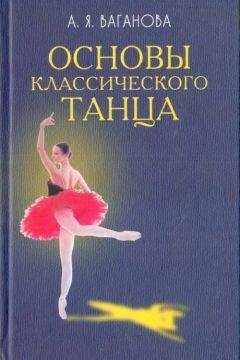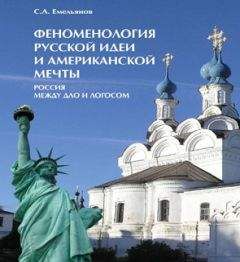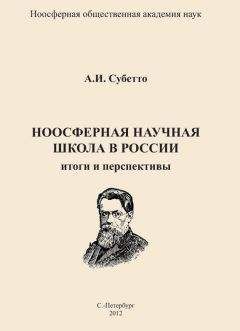Питирим Сорокин - Человек. Цивилизация. Общество

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Человек. Цивилизация. Общество"
Описание и краткое содержание "Человек. Цивилизация. Общество" читать бесплатно онлайн.
В сборнике впервые осуществлена попытка дать целостное представление о творчестве одного из основоположников русской и американской социологических школ — Питирима Александровича Сорокина (1889–1968). В издание включены сочинения по культурологии, социально-политической, социологической и философской проблематике, написанные в России, а также переводы наиболее известных работ, отражающих почти полувековой период его исследований в США.
Адресуется всем интересующимся историей, философией и социальной мыслью XX века.
Дальнейшее развитие английской революции, рассматриваемое с точки зрения радикализма разных групп и времени их исхода из процесса, соответствует положениям «2» и «3» нашей теоремы.
Обратимся к другому примеру — чешскому обществу XIV века. Накануне гуситских войн свободы и социального равенства фактически не существовало. Феодальные порядки становились все более и более репрессирующими, повинности росли, пошлины становились все многочисленнее. Эксплуатация простого люда со стороны дворянства возрастала. О какой справедливости можно было говорить, если обидчик одновременно был и судьей. Крестьянство запросто лишалось земли. Переживание от того, что чехи становились «рабами», было с каждым днем все сильнее, усиливалось оно вдобавок иностранным господством в Богемии.
Обнищание шло нога в ногу с обогащением аристократии, особенно германцев и римской католической церкви, а также с усиливающимся распутством и коррумпированностью духовенства. Из всего этого ясно, насколько значительным количественно и качественно было подавление человеческих инстинктов накануне революции.
Нет необходимости, видимо, продолжать список примеров из истории других великих революций. Читатель может сам набрать нужное количество, анализируя под заданным выше углом зрения предреволюционную ситуацию в любой стране.
Из всего рассмотренного материала явствует, что число групп, вовлеченных в революционное движение, особенно во времена великих революций, достаточно значительное. Эти группы крайне разношерстны и состоят из людей самых разных социальных позиций. Здесь можно увидеть и негодующего за прошлые унижения профессора, и обиженного редактором газетчика, и ущемленного знатью интеллектуала, и обанкротившегося банкира, и разорившегося аристократа, и голодающего рабочего, и разоблаченного авантюриста, и склонного к насилию преступника, а также и душевно неуравновешенного, но готового к самопожертвованию идеалиста. Многие из них страдают от голода, холода; другие исходят завистью, алчностью, мстительностью, страхом или гневом; третьи — жаждой и мечтой улучшения существующих отношений в обществе и т. п.
Все эти мотивы не что иное, как разнообразные формы проявления подавленных базовых инстинктов, удобренных тем, что основы социального строя расшатаны, а дорога к революции открыта идеями Руссо и Вольтера, Иоанна Гуса и Иеронима Пражского, индепендентами и Лильборном, Марксом и Лассалем, Лавровым, Михайловским, Плехановым и другими. Именно под этим влиянием радикальных или умеренных «освободителей» начинаются всякие дерзновения «репрессированных» масс. Под их влиянием происходит дальнейшее углубление революционного процесса, за которым следует… коллапс.
Наше предположение подтверждается также и отличием в степени революционности жителей городов и жителей деревень. Профессор Э. Хайэс справедливо отмечал, что горожане, как правило, более революционны, чем сельчане. Более того, они обычно выступают зачинщиками, в то время как революция затухает чаще в деревне. Из недавних событий примерами, иллюстрирующими этот тезис, могут служить события в России, Венгрии, Баварии и Италии, а еще раньше события, происходящие в период Парижской коммуны во Франции… и даже во времена Великой французской революции 1789 года.
Почему же так происходит? Да прежде всего оттого, что человек с его инстинктами и рефлексами менее приспособлен к условиям большого города, чем сельскому образу жизни. Город — явление сравнительно недавнее в истории человечества, особенно современный индустриальный город. Люди в течение тысячелетий адаптировались к деревенской среде обитания, а не к городской. Перенесенный, однако, волею истории со всем своим багажом старых инстинктов в город, человек ощущает себя лежащим на «кровати из гвоздей», к которой его рефлекторная система отнюдь не приспособлена. Возьмем, к примеру, громадные массы городского пролетариата.
Каковы условия их жизни? Работа в закрытых пространствах, господство бездушных машин из стали… Ужасающий шум и грохот… Одна и та же работа повторяется изо дня в день, механическая, монотонная, не дающая ничего ни сердцу, ни мозгу. Где и когда людские инстинкты адаптировались к подобным условиям, и могут ли вообще люди найти в такой работе удовлетворение? Естественно нет. В таких условиях не находят выхода ни импульсы творчества, новаторства, ни стремление к смене обстоятельств, ни любовь к перемещениям и т. п.
Добавьте к этому и тот факт, что пролетариат не имеет никакой собственности. А кроме того, в городах наряду с подавлением всех инстинктов взору пролетариата, с одной стороны, открыт мир плутократии, с другой — пучина бедности[244]. Следует ли удивляться, что пролетарии умственного и физического труда всегда недовольны и извечно склонны к революционности[245].
Все изложенное можно расценивать в качестве дополнительного подтверждения нашей теоремы о генезисе революций. Из всего сказанного можно заключить, что теорема установлена и доказана.
Дезорганизация власти и социального контроля. Кроме универсального подавления базовых инстинктов человека существует еще одно немаловажное условие, необходимое для продуцирования революционного взрыва. Это — недостаточное и недейственное сопротивление революционному подъему репрессированных масс. Под недостаточностью и недейственностью я подразумеваю неспособность властей и властвующей элиты: а) разработать контрмеры против давления репрессированных инстинктов, достаточных для достижения состояния социального равновесия; б) удалить или, по крайней мере, ослабить условия, продуцирующие «репрессии»; в) расщепить и разделить репрессированную массу на группы, настроив их друг против друга (devide et imperia[246], в целях их взаимного ослабления; г) направить «выход» подавленных импульсов в иное, нереволюционное русло.
Как уже не раз отмечалось, человек может быть доведен до крайнего голода, но если к его виску приставлен револьвер, то он и не притронется к стоящим перед ним кушаниям. Импульс, продиктованный голодом, будет подавлен, пусть даже если индивид находится на краю голодной смерти. В этом же духе можно рассуждать и о людях с другими подавленными инстинктами. В каждом обществе в любой период его развития мы обнаружим более или менее сильную «репрессию» инстинктов значительной части населения. И если эта репрессия не приводит к катаклизмам или мятежам, то лишь по причине сопротивления со стороны властей и привилегированных групп населения. В самом деле, нам хорошо известны периоды в истории, когда подавление инстинктов населения было крайне сильным, но оно вовсе не приводило к революционным взрывам, а лишь… к вымиранию одной части населения и рабству другой. Причина тому — чрезвычайно сильный и действенный государственный контроль. Захваты, оккупации, аннексии могут послужить в данном случае в качестве примеров.
Вспомним о Бельгии и части Франции, оккупированных Германией в годы мировой войны; о Рурском бассейне, захваченном Францией и Бельгией в 1923 году; о России, порабощенной бандой интернациональных негодяев, которых начиная с 1921–1922 годов ненавидят не меньше, чем, скажем, германцев в Бельгии и Франции, или как сейчас ненавидят французов и бельгийцев в Руре. Но вопреки этому оккупанты оказываются способными предотвратить потенциальный революционный взрыв[247].
Иными словами, для революционного взрыва мало одних подавленных инстинктов, необходимо еще и отсутствие мощного, эффективного сопротивления властей и правящих кругов. Мы наблюдаем нечто подобное в дореволюционные эпохи? Без сомнения.
Атмосфера предреволюционных эпох всегда поражает наблюдателя бессилием властей и вырождением правящих привилегированных классов. Они подчас не способны выполнять элементарные функции власти, не говоря уж о силовом сопротивлении революции. Не способны они и на разделение и ослабление оппозиции, сокращение репрессий или организацию «выхода» репрессированных импульсов в нереволюционное русло. Практически все дореволюционные правительства несут в себе характерные черты анемии, бессилия, нерешительности, некомпетентности, растерянности, легкомысленной неосмотрительности, а с другой стороны — распущенности, коррупции, безнравственной изощренности и т. д. Безмозглость, безволие, бесхитростность. «В стране нет рулевого. Где же он?.. Может, он уснул?.. Правитель утратил свою силу и долее уже не поддержка нам» — таковы комментарии Ипувера о слабости власти фараона накануне и во время египетской революции эпохи Среднего Царства.
В Древнем Риме накануне и во время движения братьев Гракхов (II в. до н. э.) мы видим подобное вырождение власти: вместо мудрых, энергичных и властных patres conscripti[248] — дегенеративный сенат, льстивый, подобострастный и раболепствующий перед толпой и ее лидерами. Т. Моммзен так описывает этот период: «Никто более не желал жертвовать ни своим достоянием, ни жизнью во имя блага родины. Вместо героев — трусы; вместо добрых сенаторов — гнилая охлократия; вместо неумолимых воинов и правителей — трусливая и аморальная аристократия толпы».
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Человек. Цивилизация. Общество"
Книги похожие на "Человек. Цивилизация. Общество" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Питирим Сорокин - Человек. Цивилизация. Общество"
Отзывы читателей о книге "Человек. Цивилизация. Общество", комментарии и мнения людей о произведении.