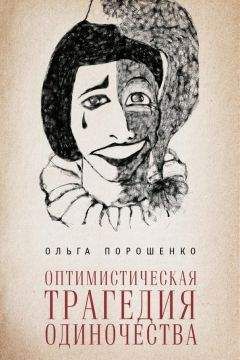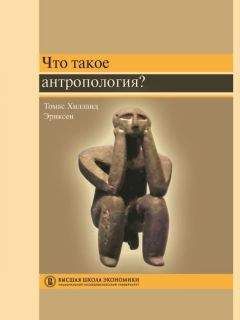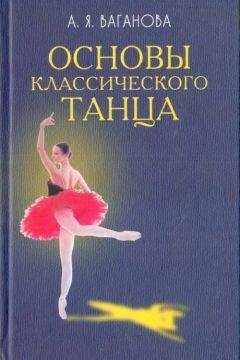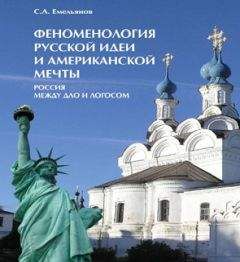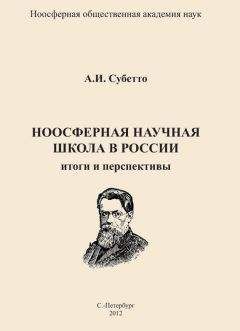Питирим Сорокин - Человек. Цивилизация. Общество

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Человек. Цивилизация. Общество"
Описание и краткое содержание "Человек. Цивилизация. Общество" читать бесплатно онлайн.
В сборнике впервые осуществлена попытка дать целостное представление о творчестве одного из основоположников русской и американской социологических школ — Питирима Александровича Сорокина (1889–1968). В издание включены сочинения по культурологии, социально-политической, социологической и философской проблематике, написанные в России, а также переводы наиболее известных работ, отражающих почти полувековой период его исследований в США.
Адресуется всем интересующимся историей, философией и социальной мыслью XX века.
Рабство. Если общепринятое мнение верно и указанная тенденция универсальная, то в истории всех социально-политических организаций мы должны увидеть, как рабство, появившись на ранних ступенях эволюции, постепенно отмирало бы. Верно ли это утверждение, претендующее на истинное, универсальное? Конечно же нет! И прежде всего потому, что на самых ранних ступенях истории рабства практически не существовало. Более того, в течение долгого периода, к примеру, истории Китая рабство вообще не было известно, за исключением порабощения преступников. Оно широко распространяется не ранее IV века до нашей эры. Позднее его неоднократно отменяли, но оно возникало вновь, особенно когда наступал голод. И так исчезновение и возрождение рабства случалось несколько раз кряду[343]. В длительной истории Китая подобные изменения никоим образом не подтверждают названную тенденцию. То же можно сказать и об эволюции рабства в Древней Греции и Риме. В архаическую эпоху было очень мало рабов. К ним относились как к членам семьи, их достоинство и статус не имели ничего общего с ужасами рабства более поздних ступеней развития[344]. С политической эволюцией социально-политических организаций рабство усиливалось качественно и количественно. В Риме оно достигло своей кульминационной точки лишь в конце республики (II–I вв. до н. э.), в Греции же — в V–IV веках до нашей эры. Если в последние века истории Рима и Греции и наблюдается сокращение числа рабов и качественное смягчение рабского законодательства (эдикты Клавдия, Петрония и Антония Пия), то это компенсировалось за счет закрепощения свободных граждан и другими законами, ограничивающими их освобождение (законы Элия Сентия, Фуфия Каниния)[345]. Взятая в целом, история этих политических сообществ не следует «ожидаемому курсу». Они, не упоминая о других организациях, где эволюция рабства была схожей, свидетельствуют о том, что вышеупомянутая тенденция не была универсальной и типичной для политической эволюции любой крупной политической организации[346].
Мне могут возразить, что история человечества, взятая в целом, показывает исчезновение рабства: оно существовало, но больше ведь не существует! На это я бы ответил, что только немногим более полувека прошло с тех пор, как оно было отменено в самой демократической стране — США; что крепостное право, которое было не лучше, чем рабство, было упразднено в России только в 1861 году. История, как оказалось, выжидала очень долго, подчас многие тысячелетия, прежде чем отважилась показать тенденцию «к равенству в этом отношении». На основании такого короткого промежутка времени невозможно с уверенностью сказать, что этот «исторический акт» является конечным и необратимым. Более того, рабство, если не юридическое, то фактическое, продолжает существовать и распространяется самыми цивилизованными нациями в их колониях среди диких и варварских туземцев. Отношение к ним и условия их жизни благодаря присутствию «цивилизаторов» зачастую такие, что им вряд ли позавидовали бы рабы прошлого. И это хорошо всем известно. Именно сейчас профессор Э. Росс в своем официальном докладе Лиге Наций указал на существование подлинного рабства в африканских колониях. Подобные «открытия» сделаны правительствами Колумбии и Венесуэлы[347]. Об этих явлениях, касающихся миллионов, часто забывают, так как порабощены не «белые люди», они не принадлежат к «культурным нациям»[348]. Два-три десятка тысяч афинян гордились своей свободой и демократией, умалчивая о том, что они эксплуатируют десятки, а то и сотни тысяч рабов. Точно так же мы хвалимся нашей демократией и равенством, забывая, что под властью 30–40 миллионов граждан Великобритании находится 300 миллионов подвластных британской короне, которые отнюдь не вкушают всех благ демократии и к которым относятся так же, как к рабам в далеком прошлом. Мы часто упрекаем Аристотеля и Платона за их «классовую» ограниченность по отношению к рабству. Но мы также гордимся равенством малой группы людей, утаивая условия жизни тех, кто находится вне этой группы. А это значит, что социальная дистанция между наиболее развитыми демократиями Великобритании и Франции (африканские и индо-китайские колонии), Бельгии (Конго), Нидерландов (Ява), не говоря уже о других европейских державах, и их колониальным туземным миром едва ли меньше, чем дистанция, существовавшая между афинянами, спартанцами и их рабами, илотами и полусвободными слоями населения.
Среди 400 миллионов населения Индии рабство в виде низших каст все еще существует, несмотря на то что в истории этого народа было немало возможностей, дабы проявить «освобождающую тенденцию». Более того, социальная дистанция от самого низкого слоя империи до полноправных граждан Британии отнюдь не короче, чем от рабов до граждан Рима. Социальная дистанция от коренного жителя Конго до рабочего Бельгии, от аборигена нидерландских, французских, португальских колоний до статуса гражданина этих стран едва ли меньше, чем социальная дистанция от слуги до его хозяина в отдаленном прошлом. Рабство означает полное подчинение одного индивида другому, который обладает правом распоряжаться жизнью или смертью своего раба. В этом смысле рабство продолжает существовать во многих странах. Одним из источников рабства было совершение преступления. И эта категория рабов еще существует в лице преступников, чье поведение полностью контролируется другими, кого в некоторых случаях могут подвергнуть экзекуции, и с кем фактически обращаются как с рабами; преступник подчас вынужден заниматься изнурительным трудом и практически не распоряжается самим собой. Заключенных в тюрьмах можно не называть рабами, но суть явления от этого не изменится.
Другим источником рабства в прошлом была война. Приводит ли опыт мировой войны к убеждению, что времена изменились? Напротив, обращение с военнопленными было столь же плохим, как и обращение в прошлом с рабами. Более того, буквально на наших глазах группа «искателей приключений» поработила и лишила собственности миллионы людей России в период с 1918 по 1920 год. Они уничтожили сотни тысяч людей, замучили других и навязали миллионам обязательный тяжелый труд, который не легче труда рабов в Египте во время возведения пирамид. Короче говоря, они лишили население России всех прав и свобод и создали в течение четырех лет настоящее государственное рабство в его наихудшей форме. Это положение в смягченном виде сохраняется и даже приветствуется многими «независимыми мыслителями» современности.
Величаются ли указанные категории людей рабами или нет — дела не меняет. Что же действительно имеет значение, так это тот факт, что в современных европейских странах и их колониях еще существуют миллионы людей, которые по сути своего положения являются рабами. Многие туземцы были освобождены до их колонизации, чтобы потерять это право на свободу после нее. И этот нижний слой во многих странах очень велик. Всех фактов, кажется, достаточно, чтобы убедиться в том, что ни условия рабства, ни взаимоотношения между рабом и хозяином, ни психология раба и хозяина, ни рабские лишения, ни привилегии хозяина, ни социальная дистанция между ними фактически и полностью не исчезли. Очарованные речами, мы чрезмерно приукрашиваем сущее, преувеличивая ужасы прошлого[349]. Короче говоря, я думаю, что даже по отношению к рабству ситуация не столь блестящая, какой обычно преподносится.
Высшие классы. Обратимся к противоположным, верхним слоям политических организаций. Подобно детям, мы хвалимся тем, что деспотизм и самодержавные монархии ликвидированы, что избирательное право стало всеобщим, что аристократии больше не существует, что социальная дистанция от низших слоев до высших значительно уменьшилась. Некоторые «социальные мыслители» сформулировали ряд закономерностей, «исторических тенденций», такие, как законы исторического перехода 1) от монархии к республике, 2) от самодержавия к демократии, 3) от правления меньшинства к правлению большинства, 4) от политического неравенства к равенству и т. п. Верно ли все это? Подтверждается ли все это историческими фактами? Хотелось бы, чтобы все это было правдой, но, к сожалению, наше желание не подкреплено фактами. Позвольте мне кратко остановиться на основных категориях подобных «упрямых» фактов, которые противятся тому пути, о котором мы мечтаем.
I. Во-первых, не существует постоянной исторической тенденции от монархии к республике. Возьмем ли мы Древнюю Грецию или Рим, средневековую Италию, Германию, Англию, Францию, Испанию, не говоря уж о «безнадежных» в этом отношении азиатских державах, и мы увидим, что в истории этих стран монархия и республика поочередно вытесняли друг друга без какого-либо определенного направления, уступая место одна другой. Рим и Греция начинали свою историю как монархии, позднее стали республиками и закончили свою историю снова монархиями. Теории приверженцев циклического развития прошлого, таких, как Конфуций, Платон, Фукидид, Аристотель, Полибий, Флор, Цицерон, Сенека, Макиавелли, Вико, были более научными и схватывали действительность гораздо лучше, чем многие спекулятивные теории современных «тенденциозных законодателей». Подобные «повороты» мы находим в истории всех перечисленных выше и многих других стран. Часть средневековых итальянских республик, как известно, впоследствии стали монархиями. Франция с конца XVIII века и на всем протяжении XIX века пережила несколько подобных «поворотов». Многие европейские республики, завоеванные в ходе революций, и вовсе исчезли. В Испании установленная в 1873 году республика просуществовала крайне недолго. В Греции за последние несколько лет мы наблюдали такие переходы неоднократно. Нет необходимости в бесконечном повторении известных фактов[350]. Только человек, мало разбирающийся в истории и предпочитающий иметь дело с фикцией, а не с реальностью, может поверить в существование упомянутой выше тенденции[351].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Человек. Цивилизация. Общество"
Книги похожие на "Человек. Цивилизация. Общество" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Питирим Сорокин - Человек. Цивилизация. Общество"
Отзывы читателей о книге "Человек. Цивилизация. Общество", комментарии и мнения людей о произведении.