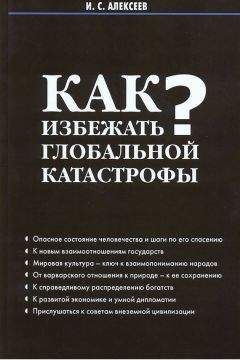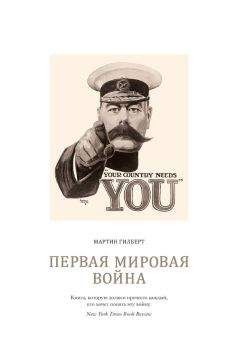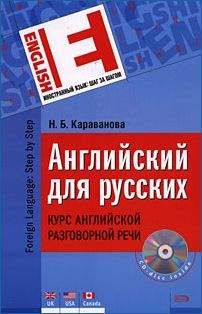Вольфганг Киссель - Беглые взгляды

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Беглые взгляды"
Описание и краткое содержание "Беглые взгляды" читать бесплатно онлайн.
В европейских литературах жанр травелога (travelogue, англ. — повествование о путешествии) занимает центральное место с самого начала Нового времени. Эта книга предлагает широкий спектр новых прочтений русских травелогов первой трети XX века, охватывая произведения А. Чехова, В. Розанова, М. Цветаевой, О. Мандельштама, А. Белого, В. Шкловского, И. Эренбурга, Г. Иванова, М. Горького, А. Платонова. Основное внимание уделяется травелогам в границах или на границы советской империи, однако представлены и те, в которых речь идет о впечатлениях русских писателей в Западной Европе. Название «Беглые взгляды», с одной стороны, подразумевает историческое состояние бегства, в которое были ввергнуты люди вследствие Первой мировой войны, Октябрьской революции и Гражданской войны в России, с другой стороны — акцентирует эстетическую и поэтологическую «беглость» травелогов модернизма, их ассоциативный и коннотативный потенциал. Так возникает новый образ жанра травелога и его эволюции в русской литературе.
Автор «Ветра с Кавказа» подчиняется девизу художника-авангардиста Кузьмы Петрова-Водкина: «Живопись вся — это наука видеть»[390]. Союзника по символическому видению он находит и в лице своего проводника, армянского художника Мартироса Сарьяна, чьи картины «синтетические ландшафты, приподнятые до схемы, образа» учили его видеть Армению[391]. Схема означает здесь визуализированный символ. Сходным образом эта мысль выражена уже в статье Белого 1902 года «Формы искусства»: «Умение видеть есть умение понимать их вечный смысл, их идею»[392]. Это снова напоминает о заимствованном символистами у Владимира Соловьева стремлении «узреть лик абсолюта»[393]. Чтобы утвердить свое стремление к синкретическому видению, соединяющему разные чувственные восприятия, в качестве непреложного авторитета Белый цитирует литовского художника Микалоюса Константинаса Чюрлениса[394].
Категория «видения» применялась в 1920-е годы не только в живописи, но и в театре, в теории формализма.
В Тифлисе Белый встречает режиссера Всеволода Мейерхольда, который находился там на гастролях с нашумевшей и вызывавшей споры инсценировкой комедии Гоголя «Ревизор», — она состояла из динамичного монтажа сцен, напоминающего приемы кинематографа. Сценическая эстетика Мейерхольда была, без сомнения, близка представлениям Белого о ритмическом жесте, занимавшем его во время путешествия по Кавказу, когда он штудировал произведения Пушкина. Результаты своих исследований в области ритмики он излагает в конце 1927 года в работе «Ритм как диалектика и „Медный всадник“» и на ту же тему делает доклад в Тифлисе.
Однако Белый дистанцируется от приема «остранения», который выдвигает один из главных представителей формализма Виктор Шкловский. Встреча со Шкловским в Тифлисе послужила для Белого поводом отделить собственное понимание «приема» от технического значения, которое придавал ему Шкловский. Говоря точнее, Белый не сводит творчество оживленного и импульсивного Шкловского к редукции художественного текста до «суммы приемов»: Шкловский-человек слишком чужд приему и форме, слишком содержателен, чтобы удовлетвориться анализом приемов[395]. Для Белого «прием» — всегда субстанция, указывающая на жест, на символ.
Важным источником техники визуализации, долгое время мало привлекавшим исследователей творчества Белого, является его пристрастие к орнаментам и мозаикам, которые он создавал в гостеприимном доме своего друга, художника Максимилиана Волошина, в крымском Коктебеле. Минералы, разного рода камни вулканического происхождения, которыми изобиловала коктебельская бухта, превратили ее в настоящее Эльдорадо для собирателей камней. Прогулки по пляжу с обязательным собиранием пестрых и причудливых камней принадлежали к священному ритуалу гостей Волошина, и Белый предавался этому занятию с большим воодушевлением. Он сам называл собирание камней настигшей его «коктебельской болезнью», оказавшейся полезной для его символистского концепта синтетического видения: «Все мне сочеталось в камнях, нами собранных […] Камни аджарские многое мне приоткрыли; они — ключи к быту, ключи к пониманию орнамента…»[396]
Он находит способ выбирать камни с эстетической, геологической и лингвистической точек зрения и признается, что написал роман «Москва», пользуясь методом, открытым в Коктебеле («Я же мозаичистом стал»).
Смысл орнамента, выраженный через камни, в конечном итоге становится для него символом культуры обитателей Кавказа: «…орнамент аджарских платков повторяет орнамент сложения камешков пляжа…»[397] Волошиным были, несомненно, вдохновлены и другие способы визуализации и символизации: прежде всего очеловечивание (антропоморфизм) природы — Арарату и Алагежу придаются человеческие черты («патриарх Арарат»), — затем придание символического культурного значения природным камням и скалам, а также интерес к местам синкретической культуры, которые возникают и в путевых записках Белого, и в крымских стихах Волошина.
Фокусируя взгляд на конкретной перспективе, предполагающей конкретный пункт наблюдения и наблюдателя и включающей, наряду с визуализацией, ритм, Белый получил возможность превращать внутреннее (индивидуальное, к которому относится и культурное предвосхищение) и внешнее, данный объект (Кавказ во время переворота) в нечто третье — в символ (образ-смысл).
В связи с путешествием на Кавказ Белый говорит о «кодаке», фотоаппарате, который он всегда возил с собой и который позволял ему фиксировать мгновения движений, поз, мимики[398]. Аппарат служил ему в качестве специального механизма памяти, позволявшего воспринимать города и ландшафты как образ. Вместе с тем Белый сознавал, что образы создаются не глазом, а мозгом, причем внутренние образы возникают посредством напластования внешних впечатлений и образов, предопределенных культурой.
Настало время задаться вопросом, каким образом могут быть «увидены» в тексте две данные несовместимые реальности в экзотическом мире Кавказа, чужое и новое: социалистическая стройка.
III. «Ветер с Кавказа»В первом тексте — впечатлениях от путешествия, совершенного автором с апреля по июль 1927 года, — доминирует частная перспектива. Эта поездка — его первая встреча с Кавказом. Записанные в дневник первые впечатления сначала явно не предназначались для публикации, последовавшей через год в журнале «Красная новь». Окончательная подготовка текста осуществлялась с января по март 1928 года. Свой путевой отчет Белый начинает с предисловия, призванного определить его культурно-политическую позицию.
Он подчеркивает приватный характер путешествия и так обосновывает «личный стиль» и случайный выбор впечатлений:
…мои «Кавказские впечатления» не претендуют на многое; они появились как оформление личной, дневниковой записи для себя и нескольких друзей…[399]
Наряду с личной мотивацией, которая прежде всего призвана завуалировать импрессионистический стиль, автор придает предисловию и культурно-педагогическую направленность, с помощью которой он до некоторой степени снова входит в известную со времен Пролеткульта роль преподавателя искусств. Сразу после написания текст был издан в качестве путеводителя, так как следовал всем традиционным и новым маршрутам, рекомендованным для советских путеводителей по Кавказу, и был обращен к тому массовому читателю или путешественнику, который собирается в путь, чтобы познать свою новую родину, находящуюся в состоянии революционного переворота. Грузия и Армения были присоединены к Советскому Союзу в 1922 году, до этого они вместе с Азербайджаном образовывали Закавказскую республику. В определенном смысле речь идет о втором покорении Кавказа, которое, согласно советской риторике, было лишь добровольным объединением равноправных государств.
Однако в первую очередь путеводитель должен был дать не фактологические и практические, но не менее важные эстетические наставления, призванные обострить восприятие ожидавшего путешественника чужого мира, его природы и культуры. Чтобы увидеть красоту, нужен «культурный фокус», необразованные люди ее не видят, потому что красота принадлежит к сфере культуры, а не повседневности. Природа как часть повседневной жизни «не созерцаема», нужно приблизиться к красоте, сама по себе она не придет к нам. Для этого необходимо обучение глаза посредством искусства. По словам Белого, он сам многое воспринял в природе только через призму увиденного прежде в музеях[400]. Автор признается, что поехал в Италию и Сицилию, вдохновленный итальянским путешествием Гете; из этого можно заключить, что он сходным образом оценивает свою роль в современном открытии Кавказа. При этом он не считает себя первопроходцем — до него на Кавказе бывали Пушкин, Лермонтов, Врубель — скорее проводником, посредником. В одном из публичных выступлений в Тифлисе на тему «Читатель — писатель» Белый излагает свои взгляды на роль писателя в новом обществе и особенно подчеркивает творческое общение между писателем и читателем. Он явно старается говорить на новом советском языке, когда утверждает: «Писатель — это высококвалифицированный спец […] подлинный писатель — организатор тока высокого напряжения творческой совместной работы, вызывающей к умению обращаться с током»[401].
Тем самым он подспудно выступает против предъявленного РАППом требования всеобщей понятности литературы и потворства вкусам народных масс, за воспитание «читательского авангарда».
Однако, несмотря на некоторый педагогический уклон, «Ветер с Кавказа»— все что угодно, но не путеводитель для образованных туристов. И хотя путешествие изображается как частная поездка («Я путешествую инкогнито как Борис Бугаев»), автор очень быстро входит в роль Андрея Белого — не только из-за докладов, которые его просят читать в Тифлисе, но и вследствие встреч с художниками, людьми театра, занимающими в его тексте большое место. Кармен Сиппль верно заметила, что его исходная точка и пространство дискурса является его культурой, самозаверением и самоутверждением. Грузия видится не столько как чужое, сколько как расширенное свое. Это имеет и биографическое основание: его отец Николай Бугаев родился на Кавказе в Душети под Тифлисом. В одном из ранних травелогов «Путевые заметки» Белый сообщает, что после смерти отца часто видел повторяющийся сон, связанный с его происхождением. Поэтому путешествие по Кавказу он ощущает как «трансплантацию памяти в сон»[402].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Беглые взгляды"
Книги похожие на "Беглые взгляды" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Вольфганг Киссель - Беглые взгляды"
Отзывы читателей о книге "Беглые взгляды", комментарии и мнения людей о произведении.