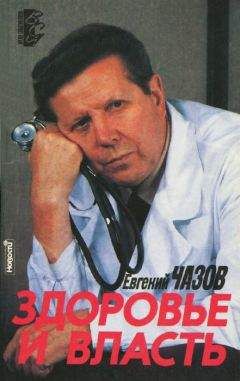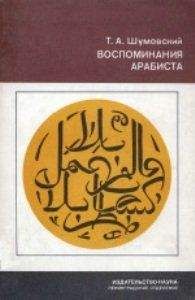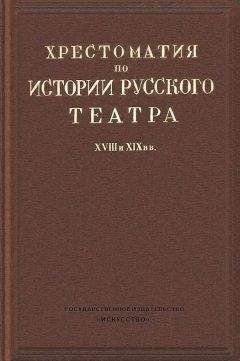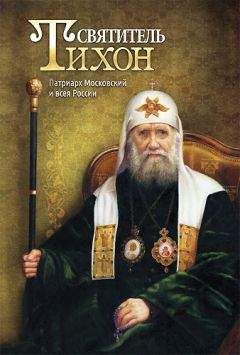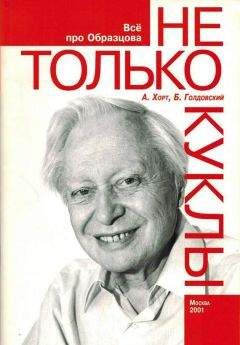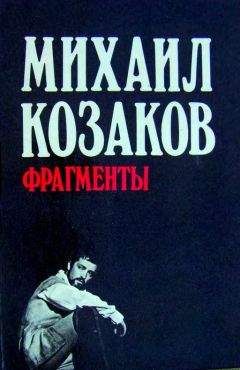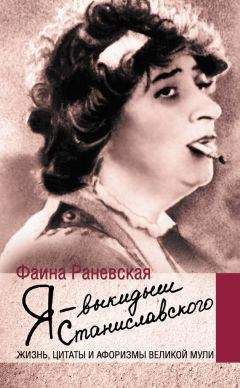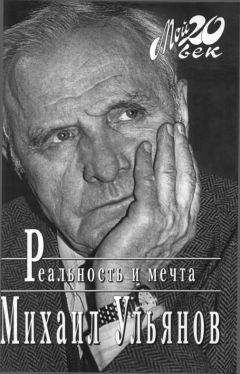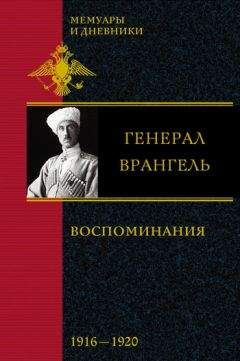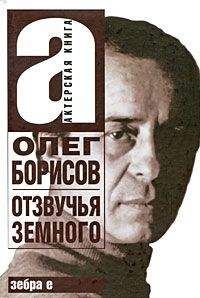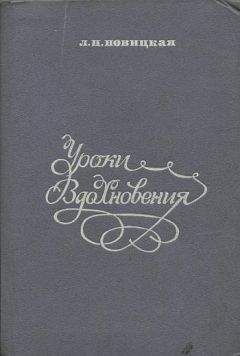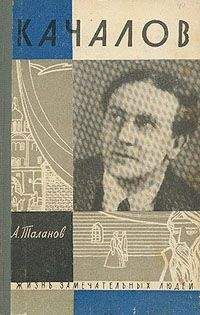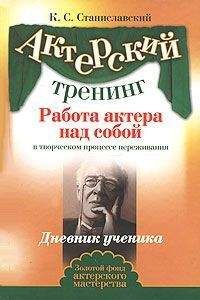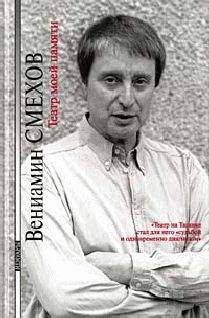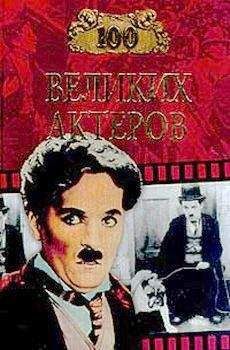Елена Полякова - Театр Сулержицкого: Этика. Эстетика. Режиссура
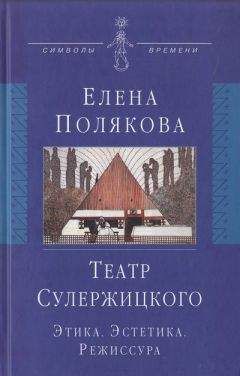
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Театр Сулержицкого: Этика. Эстетика. Режиссура"
Описание и краткое содержание "Театр Сулержицкого: Этика. Эстетика. Режиссура" читать бесплатно онлайн.
Эта книга о Леопольде Антоновиче Сулержицком (1872–1916) — общественном и театральном деятеле, режиссере, который больше известен как помощник К. С. Станиславского по преподаванию и популяризации его системы. Он был близок с Л. Н. Толстым, А. П. Чеховым, М. Горьким, со многими актерами и деятелями театра.
Не имеющий театрального образования, «Сулер», как его все называли, отдал свою жизнь театру, осуществляя находки Станиславского и соотнося их с возможностями актеров и каждого спектакля. Он один из организаторов и руководителей 1-й Студии Московского Художественного театра.
Издание рассчитано на широкий круг читателей, интересующихся историей театра.
„Вот в какой школе я учился“, — сказал мне почти хвастливо капитан Б., полулежа на подушках и кутая ноги одеялом. Свою деятельность капитана он совсем еще молодым начал на одном из этих барков. И, по его рассказам, он неизменно, перед тем как после дальнего плавания повести судно к берегу, несколько дней чувствовал себя больным, но болезнь эта проходила мгновенно, как только покажется впереди знакомый береговой знак. Потом, когда он стал постарше, это прошло совсем, он больше не волновался.
В то время как Б. говорил это, его усталый взгляд был неподвижно устремлен куда-то вдаль: так смотрит вперед моряк на корабле, когда ничего нет между ним и линией горизонта. Где сливаются море и небо и где должно появиться то, чего всегда ищут вдали глаза моряка. Но, наблюдая за капитаном, я заметил также, что глаза его с любовью останавливались на лицах окружающих, на всех знакомых предметах родного гнезда, картина которого, должно быть, часто возникала в его памяти во время плавания, в минуты тревоги и напряжения. Чего искали его глаза вдали? Готовился ли он ввести свой корабль в неведомую гавань или неомраченный ум его намечал курс последнего плавания?
Трудно сказать. Ведь в этом рейсе, из которого никто не возвращается, прибытие и уход мгновенны, они сливаются в единый миг высшего и последнего напряжения. Я хорошо помню, что не заметил никаких признаков нерешительности в сосредоточенном выражении его изможденного лица, ни тени нервного беспокойства молодого капитана, который готовится пристать к незнакомому, не отмеченному на карте берегу. Нет, он был достаточно опытен, он столько раз в жизни приводил свой корабль к берегу и уводил его в море! И разве он не „отслужил свое“ У знаменитой Компании медных рудников, не учился в этой школе стойких и смелых моряков?»[9]
Старшее поколение, моряки-старики, доживающие век в богадельне, под призрением семейства Босс. «Одесский вариант» таких сидящих на берегу описывал Сулер в записках матроса. От Кронштадта до Гавра полно таких стариков — сидят на берегу, смотрят за горизонт, предаются воспоминаниям или молча курят. Богаделы от Босса стараются проводить время в конторе Босса. Театр подчеркивает разницу характеров. Даже у студийца с простой фамилией Колин — старый брюзга Даантье всех заражает унынием. Кобус Михаила Чехова — как веселый фонарик. Гномик с прищуренными добрыми глазами, с легкими седыми волосами вокруг лысины — странной, заостренной, словно кожаная шапочка. Кораблик-модель пляшет в ловких пальцах Кобуса. Те же пальцы перебирают ветхий шарф, которым старик кутает шею. С этим шарфом на старческой шее, в этой просоленной куртке Кобус возникает в конторе: нет ли известий о «Надежде». Бездетный бедняк-старик, словно — единая общая морская душа. Человек и символ одновременно. Утешить вдову Книртье, беременную Ио, которая тоже стала вдовой, он не может, но может проклясть и проклинает хозяев.
Матильда Босс — супруга хозяина, смотрит на старика как на нищего, забредшего в порядочный дом, или как на лягушку, которую надо раздавить. Ее играет Серафима Бирман. Она в хлопотах о соболезнованиях семьям погибших: ведь только что пришло известие о судьбе «Надежды». Увядшая дама с модным напуском волос над выщипанными бровями, с острым карандашом в острых пальцах. Жизнь продолжается. Достаток семьи Босс должен прибывать. «Марсельеза» должна заглохнуть вдали, над морем.
«Марсельезу» споют четыреста раз — столько пройдет спектакль, предназначенный сперва только для себя.
На домашний просмотр в Москве пришел Горький (после всех разрывов с «Карамазовыми»). Очень одобрил, ободрил всех. Премьеру показали в Петербургских гастролях, весной. Все, доставшие билеты, рыдали над судьбами моряков и подпевали «Марсельезу». Первый спектакль студии утвердил право «системы Станиславского» если не как идеал, все определяющий в искусстве, то как возможность обновления театра, воспитания цельных коллективов единомышленников, которые должны прийти на смену труппам.
Первый публичный спектакль сразу усложнил отношения, столь легкие, равные в студии-школе. Певшие «Марсельезу» за сценой все хотели играть на сцене. Публичные спектакли требовали измененного распорядка времени. Если студия целиком подчинена только потребностям Художественного театра — о какой своей дисциплине можно говорить? У самих студийцев образуются семьи, надо существовать не заслугами старших поколений, но помогать этим старшим. Ведь работа в студии не оплачивается, община живет малыми потребностями, хотя даже малые — они постоянны. Помещение снимает Константин Сергеевич. Декорации — аскетичны до предела, костюмы для себя женщины умеют мастерить. Для «Надежды» многого не надо. Для следующей пьесы — тоже. Репетируют «Праздник мира» Гауптмана. Бытовая пьеса. Действие происходит в сегодняшнем немецком доме. Костюмы — сюртуки, пиджаки, обычные женские платья. Массивный диван ставится слева, рядом — напольные часы, узкая ковровая дорожка стелется от двери в центре сцены. Главное — чтобы была атмосфера Рождества, уличной зимы, откуда появляются персонажи в теплой светлой гостиной. Елочка между дверью и окном. Дверь и окно — не русские, с мелкими переплетами, в которые вставлены стеклышки. Как в «Синей птице», как в городке «Надежды». К Рождеству еще гирлянда на стене, свечи везде, чтобы зажечь их в честь собравшейся на праздник семьи. Рождество в тот же вечер, что в «Синей птице». Но души здесь не освободятся, не пустятся в сказочные странствия, не сказочные души — люди съедутся из странствий, собьются на диване, возле теплой печки. Здесь противоборствует не богатство — нужда, не хозяева — работники.
Одна семья собралась; градации здесь личностные, распри также чисто семейные. Одни — сделали свою жизнь, обогатились, другие — неудачники. Но благополучие только расчеловечивает человека, неустроенность порождает только зависть. Здесь все одиноки, здесь брат брату — враг, тетка племяннице — соперница, завистница. Все одиноки, несчастны в своем одиночестве. Праздник мира становится праздником злобы, сведением давних счетов, злорадным открытием грехов, кликушескими исповедями, после которых еще тяжелее жить.
Ведет занятия-репетиции Вахтангов. Знает возможности Лиды Дейкун, Миши Чехова, Симы Бирман; репетирует точно по характерам, одновременно образуя «круги внимания», определяя действенные задачи. У каждого в памяти — ссоры за чайным столом, зависть здоровью или успеху, соперничество женщин. Вахтангов помнит своего отца-деспота, напряженность за кавказским щедрым столом. А Сулер подсказывает свое ему и всем актерам:
«Не потому они ссорятся, что они дурные люди, а потому мирятся, что они хорошие по существу. Это главное. Давайте всю теплоту, какая есть в вашем сердце, ищите в глазах друг друга поддержки, ласково ободряйте друг друга открывать души.
Только этим и только этим вы поведете за собой зрительный зал.
Не нужно истерик, гоните их вон, не увлекайтесь эффектом на нервы. Идите к сердцу».
Сулер прерывает репетицию:
«Как чутко подошел ты к далекой еще до законченности работе!
Какие мысли были у тебя, и что ты предугадывал в пьесе?
Еле сдерживая смех, прикрывая готовый вырваться смешок, радостными глазами проникаешь в существо каждого исполнителя. В самый сильный момент ты вдруг не выдерживаешь, даешь выход накопившемуся смеху, падаешь со стула и, задыхаясь от невозможности побороть в себе новый подкат смеха, говоришь:
„Постойте, постойте. Остановитесь, черти, на минутку!“
Не бросая нити сцены, замирают исполнители на своих местах, ждут некоторое время, пока ты успокоишься и продолжают акт».
«Ах, какие смешные люди! — говоришь ты после просмотра. — Все милые, сердечные, у всех есть прекрасные возможности быть добрыми, а заели их улица, доллары и биржа. Откройте их доброе сердце, и пусть они дойдут до экстатичности в своем упоении от новых, открывшихся им чувств, и вы увидите, как откроется сердце зрителя. А зрителю это нужно, потому что у него есть улица, золото, биржа… Только ради этого стоит ставить „Потоп“»
(воспоминания Вахтангова, 1920 год).Спектакль играется на зрителей. Зал на 120 мест дышит единым дыханием с семьей Шольц. Действию на сцене все чаще сопутствуют истерические вскрики в зале, конечно, женские. Дамы, скромно одетые барышни-курсистки или служащие (их все больше — телефонистки, машинистки, стенографистки, конторщицы, чертежницы) — плачут в зале, плач переходит во вскрики, в удушье. Женщина выходит среди действия, или ее приходится вывести — под руки. Дать понюхать нашатыря. Помочь дойти до дамского туалета, где можно причесаться, припудриться — уехать на извозчике в собственную квартирку с елкой, с дорожкой на полу.
Сулер в своих дневниках делает большую запись-размышление. О природе истерики в плане физиологии-медицины. О ее заразительности и сочувственной брезгливости очевидцев. Конечно, болезнь нервов. Актеры не утишают, провоцируют эту болезнь: «сегодня были две истерики, вот как игранули!» А между тем мне кажется, что истерики в публике доказывают прямо противоположное. Актеры сами заражаются от зала, «расковыривают» свой смех. На следующем спектакле в зале вскрикнет другая, актеры же довольны — «игранули!». Довольны тайно, для себя, замечание «заведывающего студией» принимают, а на следующем спектакле опять вызовут женский вскрик в зале на 120 мест.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Театр Сулержицкого: Этика. Эстетика. Режиссура"
Книги похожие на "Театр Сулержицкого: Этика. Эстетика. Режиссура" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Елена Полякова - Театр Сулержицкого: Этика. Эстетика. Режиссура"
Отзывы читателей о книге "Театр Сулержицкого: Этика. Эстетика. Режиссура", комментарии и мнения людей о произведении.