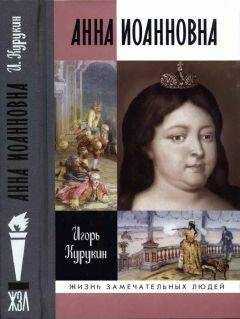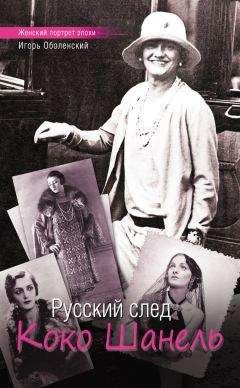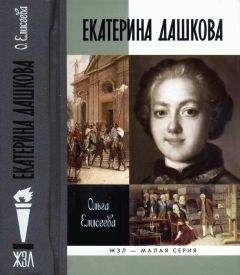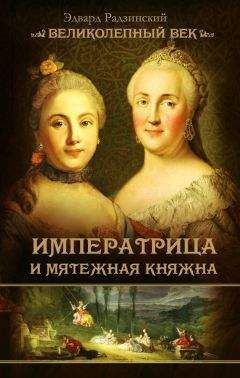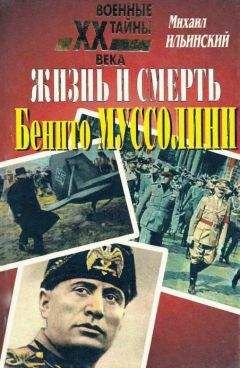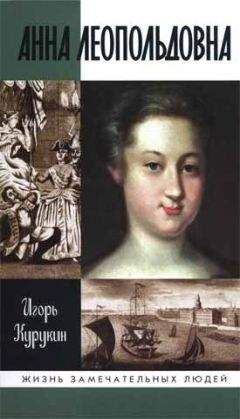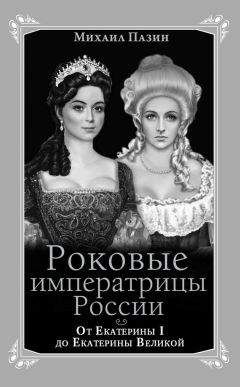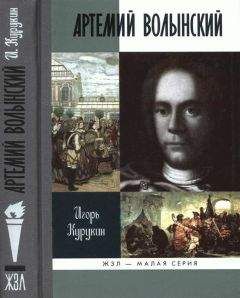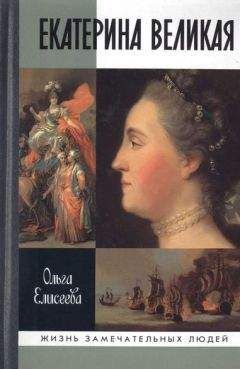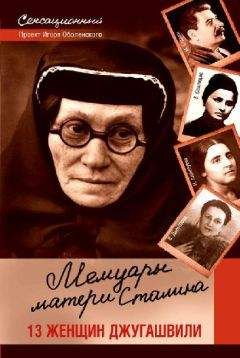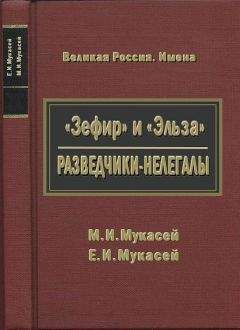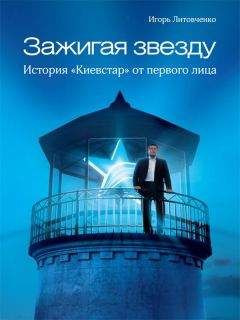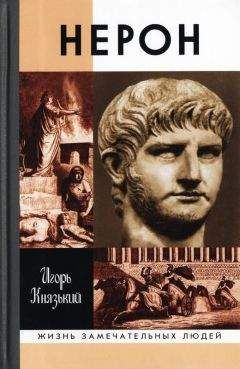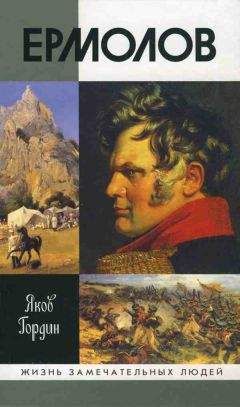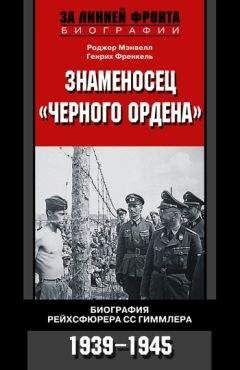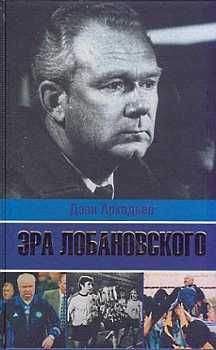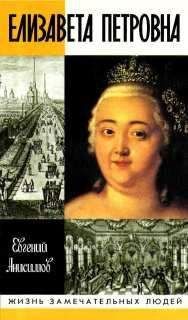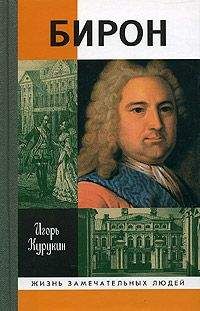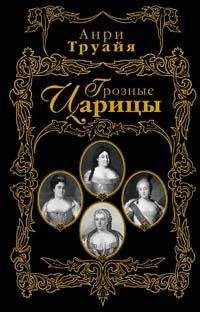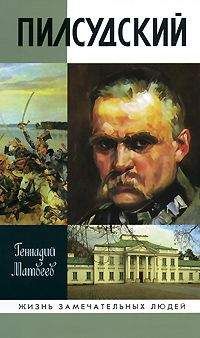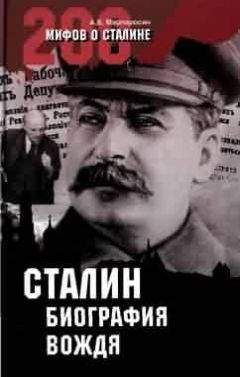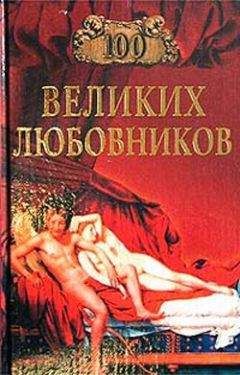Игорь Курукин - Княжна Тараканова
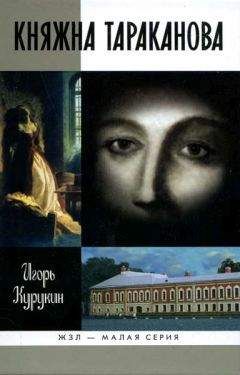
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Княжна Тараканова"
Описание и краткое содержание "Княжна Тараканова" читать бесплатно онлайн.
Та, которую впоследствии стали называть княжной Таракановой, остаётся одной из самых загадочных и притягательных фигур XVIII века с его дворцовыми переворотами, колоритными героями, альковными тайнами и самозванцами. Она с лёгкостью меняла имена, страны и любовников, слала письма турецкому султану и ватиканскому кардиналу, называла родным братом казацкого вождя Пугачёва и заставила поволноваться саму Екатерину II. Прекрасную авантюристку спонсировал польский магнат, а немецкий владетельный граф готов был на ней жениться, но никто так и не узнал тайну её происхождения. Неудивительно, что её биография обросла многочисленными легендами.
Книга доктора исторических наук Игоря Курукина, написанная на основе документов, рассказывает о подлинной истории отчаянной искательницы приключений, выдававшей себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны, претендовавшей на русский престол, которая даже в каземате Петропавловской крепости предпочла смерть признанию вины.
Арестованная настаивала на том, что она — женщина честная и порядочная, которая ничего больше не желает, как стать супругой графа Филиппа Фердинанда. Поэтому она готова оказать услуги «в пользу российской коммерции касательно до Персии», а через это «получить от её величества какую-либо милость и приличное название, по которому она могла бы выдти за князя Лимбургского».
Следователь вновь попытался вернуться к вопросу о фальшивых «духовных и манифестах» — и услышал тот же самый уверенный ответ: «…она, будучи в Рагузе, получила, как выше сказано, при письме без подписи, в пакете запечатанном к султану, три тестамента, первый от имени государя Петра Великого о короновании императрицы Екатерины Первой, второй от императрицы Екатерины Первой о короновании Елизавет Петровны, а третий от Елизавет Петровны о короновании дочери её Елизаветы II, да два письма без подписи, касавшиеся до тестамента Елизавет Петровны на оную её дочь; а о манифесте сказала, что это был не манифест, но так как бы инструкция или указ, коим графу Орлову предписываемо было, чтобы о завещании Елизавет Петровны о дочери её объявить во флоте, и сия бумага послана от неё была к нему с тем, что не узнает ли она чрез него лучше о причине, от кого и почему произошли сии сочинения и не из России ли они присланы; а сама после того писала в Венецию к оставленному тамо… её служителю, чтобы он старался на почтовом дворе наведаться, откуда помянутый пакет к ней прислан; ибо она с клятвою утверждает, что она той руки, коею написано письмо, совсем не знает и никакого в том никогда и ни с кем согласия не имела».
Таким образом, благородная дама представала жертвой загадочной интриги. Она, правда, сознавалась, что, «наслышавшись о своём рождении и разсуждая при том о бывших с нею в малолетстве приключениях, иногда в мыслях своих льстила себя такою надеждою, что, может быть, она не та ли самая персона, о которой в тех тестаментах упоминается, хотя оные письма никем подписаны не были; но она думала, что оное дело происходило по какому-либо политическому согласию». В любом случае, утверждала арестантка, она не допускала никаких враждебных России действий и «адресованных к султану писем не послала она для того, что надеялась наперёд обо всём обстоятельно известиться от графа Орлова, однако ж она от него никакого объяснения на то не получила».
Эта ситуация, по словам дамы, оказалась настолько затруднительной для её разума и нервов, что она, «разсуждая обо всех сих письмах различным образом, от французского ли двора, или от турецкого, или же из России оное произошло, пришла в такое замешательство своих мыслей, что сделалась оттого на несколько времени больна; потом, оставшись в том же неведении, не помышляла она более о сём деле, и старалась только, достав денег, возвратиться в Германию и остаться в землях князя Лимбургского, который обещал ей уступить, для пребывания её, графство Оберштейн, а все оные бумаги оставила она у себя для одного любопытства и показания князю».
Под конец допроса расчувствовавшаяся авантюристка клятвенно уверяла, что она невинна как младенец: «…она из Рагузы в Константинополь ни к кому того не писывала, чтобы, назвав себя российскою принцессою, просить от султана протекции, и между прочим говорит, что она всегда находила в себе довольно крепости душевной, снося столь многоразличные несчастия, и что она как прежде, так и ныне твёрдое имеет упование на Бога тем наипаче, что никому в свете никакого зла не учинила и потому ни малейшего угрызения совести не имеет, а надеется всякого от её императорского величества милосердия; что она всегда чувствовала в себе некоторую склонность к России и что потом, при всех случаях, где только могла, старалась отвратить своими советами всякие для оной вредные намерения». Так, злобный Радзивилл собирался «сыскать какое-нибудь судно, ехать во флот российский с тем, чтобы его сжечь; однако она и в том ему воспрепятствовала». По логике этих рассуждений получалось, что Екатерине II следовало не только не держать достойную барышню в заточении, но, скорее, наградить её за преданность, радение за интересы России и преодоление искушения выступить самозванкой!
Эти признания «принцессы» существуют только в переводе, их французского подлинника в деле нет, в отличие от её позднейших собственноручных показаний и таких же сочинений членов её свиты: Доманского и Чарномского — на польском языке и Франциски Мельшеде — на немецком. Однако едва ли есть основание вслед за Н. М. Молевой подозревать в этом некий умысел следствия. Намеренно из предосторожности изымать какой-либо текст из дела не имело смысла — эти бумаги никому не были доступны, их не могло затребовать из Тайной экспедиции ни одно учреждение империи, не говоря уже о частных лицах. Что же касается перевода, то он делался не только в данном случае; переводились все показания главной обвиняемой и её спутников-иностранцев, и все они в деле наличествуют. Кстати, переводы XVIII века довольно точны, что можно с уверенностью утверждать, сравнив их с позднейшими переводами в публикациях 1867 года и книге Э. Лунинского. Если учитывать, что составляющие ныне единое следственное дело материалы в 1826 году представляли, по докладу Д. Н. Блудова, «довольно огромную кипу» бумаг, переданных ему из кабинета Александра I, то можно допустить, что некоторые из них могли быть утрачены без всякого намерения.
Князь Александр Михайлович ответственно подошёл к данному ему поручению: уже 26 мая он лично посетил арестованную и застал её «в немалом смущении от того, что она, не воображая прежде учинённой ею дерзости, отнюдь не думала того, что посадят её в такое место». 31 мая Голицын доложил Екатерине: «…сказывала мне о том своё удивление, спрашивая, за что с нею столь жестоко поступают». К тому времени первые допросы уже состоялись. Уговоры главнокомандующего оказались бесплодными. Ознакомившись с показаниями подследственной, он вынужден был признать, что «история её жизни исполнена несобытными делами и походит больше на басни; однако ж, по многократном увещевании, ничего она из всего ею сказанного не отменяет, также и в том не признаётся, чтоб она о себе подложным названием делала разглашение, хотя она против допроса поляка Доманского была спрашивана»{201}.
Шляхтич был искренне увлечён самозванкой: на допросе он показал, что имел к ней «некоторую склонность» и видел в предмете страсти необыкновенную женщину «в рассуждении разума её, учёности и высокомерных поступок». В его изложении «персидская сказка» Елизаветы выглядела ещё более романтичной: якобы до девяти лет она жила в Петербурге, а когда была сослана, то бежала «на Дон к Разумовскому», который и переправил её в Иран на попечение самого «персидского короля», с которым состоял в родстве (!).
Однако он же поведал, что дама его сердца собиралась в Стамбул «для протекции себе», а её ссора с Радзивиллом произошла как раз потому, что князь не желал отправлять письма «принцессы» к султану и ожидал от того «худых следствий». В голове простоватого шляхтича зародились сомнения в искренности его повелительницы, и он «раза с четыре приставал к ней с усильнейшею прозбою, чтоб она открылась ему чистосердечно». Он был готов присягнуть ей на верность и следовать за ней повсюду, кем бы она ни была — но в ответ неизменно слышал истерику и уверения, что она «подлинно российская принцесса и дочь императрицы Елисавет Петровны». Доманский признался следователю, что, перестав верить самозванке, он всё же не освободился от её чар: «Так она тогда его заговорила, что не мог ни в чём ей попротиворечить»{202}.
Следователи не были столь легковерными, как польские дворяне, кои, по мнению Голицына, «льстились, может быть, в мечте своей надежды сделать чрез то со временем свое счастье». Тем не менее князь всё же проявил некоторое милосердие. Он сообщил государыне: «…не имея к улике её потребных обстоятельств, не рассудил я, при первом случае, касательно до пищи возложить ей воздержание или, отлуча от неё служанку, оставить на некоторое время в безмолвии, поелику ни один человек из приставленных к ней для присмотра иностранных языков не знает, потому что она без того от долговременной на море бытности, от строгого нынешнего содержания, а паче от смущения её духа сделалась больна». Он допустил к узнице врача и перевёл её в другое помещение, располагавшееся, как говорилось выше, под комендантским домом.
И всё же такое начало расследования ничего хорошего не сулило: схваченная преступница, ещё недавно именовавшая себя законной наследницей российского престола, не только не чувствовала за собой никакой вины, но выражала «удивление» по поводу ареста и разве что не обвиняла российские власти в нарушении своих законных прав! Следом за устной жалобой последовали письменные обращения.
Пленница написала Голицыну не униженное прошение, а именно письмо — адресованное не вельможе-начальнику, а светскому человеку своего круга: «Мой князь, имею честь писать вам эти немногие строки с тем, чтобы просить вас представить прилагаемое письмо её величеству, если вы то признаете удобным». О прочем — ни слова. Узница лишь по-светски изящно пояснила, что в данном случае нет нужды в длинных рассуждениях по поводу её истории: «…я готова сделать известным всему миру, что все мои поступки были для пользы вашего отечества; здесь неуместно входить в политические предметы, я их объясню в своё время и где следует». Она как будто журила неловкого градоначальника-следователя, давая понять, что не желает продолжать докучливый разговор.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Княжна Тараканова"
Книги похожие на "Княжна Тараканова" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Игорь Курукин - Княжна Тараканова"
Отзывы читателей о книге "Княжна Тараканова", комментарии и мнения людей о произведении.