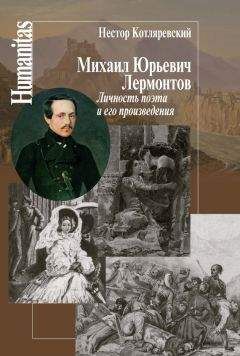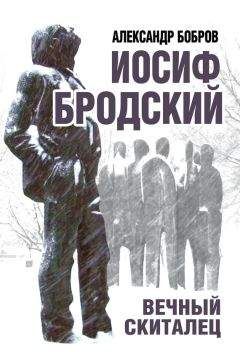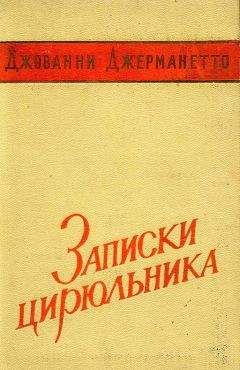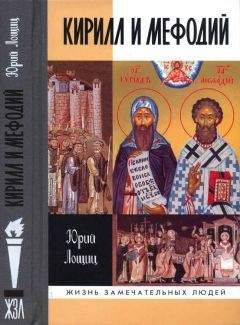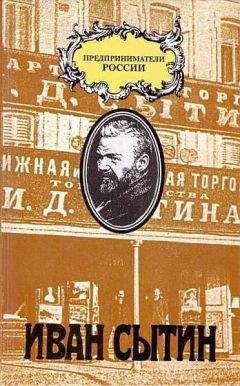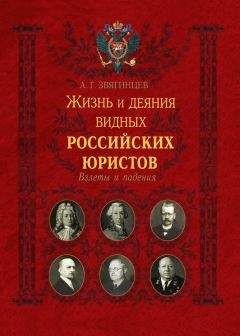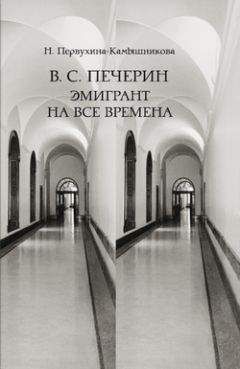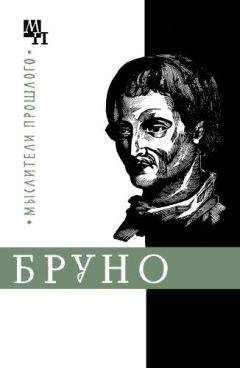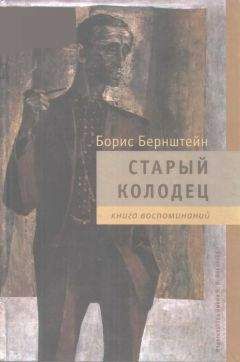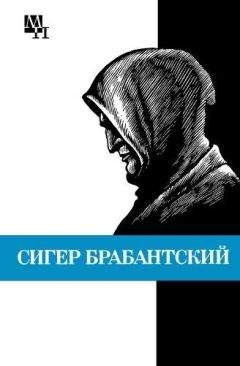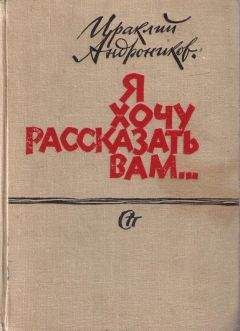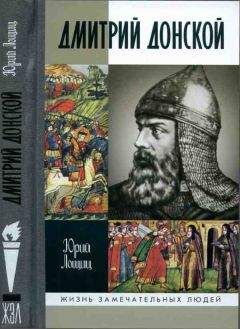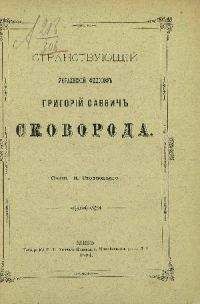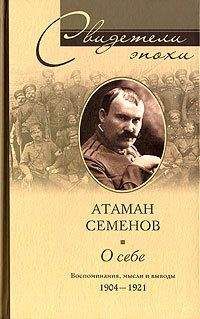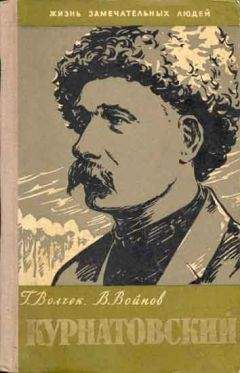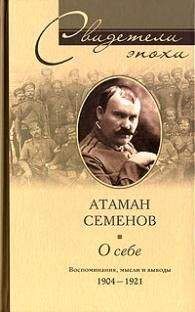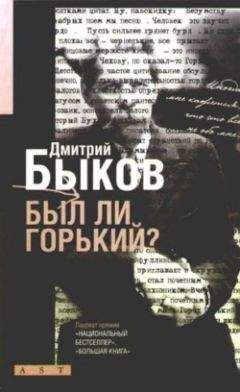Юрий Лощиц - Григорий Сковорода
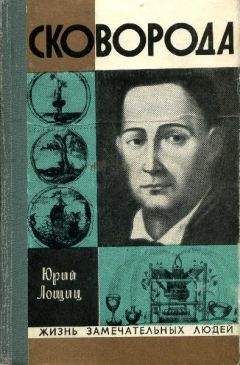
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Григорий Сковорода"
Описание и краткое содержание "Григорий Сковорода" читать бесплатно онлайн.
Ю́рий Миха́йлович Ло́щиц (р. 1938) — русский поэт, прозаик, публицист, литературовед. Лощиц является одним из видных современных историков и биографов. Г. Сковорода — один из первых в истории Украинской мысли выступил против церковной схоластики и призвал к поискам человеческого счастья.
Церковь тогда не столько претерпевала извне, сколько испытывала тяжелый — как никогда прежде — внутренний недуг, выразившийся в катастрофическом обмирщении ее правящей верхушки, в формализации богослужения, в позиции лакейства и угодничества перед государственными инстанциями. Достаточно вспомнить) хотя бы знаменитого деятеля этой эпохи, который совмещал в своей персоне первенствующего архиерея и сочинителя одиозной литургии Бахусу, пародировавшей элементы богослужения, чтобы представить себе размеры и симптомы заболевания.
Можно вспомнить другого иерарха; он прославился тем, что в своем владении велел перелить колокола на мортиры и устраивал из этих мортир регулярную пальбу на монастырском подворье, долженствующую быть заменой обычного благовеста.
Это, конечно, курьезные аномалии — не каждому было по возможностям проявлять себя столь громким образом, — но аномалии не беспочвенные. Охотников носить на монашеской обуви бриллиантовые пряжки и палить из пушек под литургийное пение существовало гораздо больше, чем тех, кто имел возможность подобные желания осуществлять.
Религиозный протест народных низов, вызванный очевидным обмирщением официальной церкви, был в своей положительной программе обращен ко временам прошедшим. Для старообрядчества это была дониконовская Русь с ее идеалом «древлего благочестия», для более радикальных сектантов — времена первоначального христианства, когда церковь, будучи гонимой, еще не вступала в обременительный союз со светской властью, когда она обходилась еще без оплачиваемого и поставляемого сверху клира, без большинства сложившихся позднее обрядов.
Ныне широко употребляемый термин «обрядовое христианство», который обозначает преобладание в теле церкви внешнего, формального начала над внутренним, духовным, в первую очередь связан с обстановкой именно XVIII века; сама эпоха требовала такого термина.
В каком отношении к религиозным оппозициям находился Григорий Саввич Сковорода? Это вовсе не праздный вопрос, если учесть, что труды его со временем проникли в книжным обиход старообрядцев, что имя его было почитаемо в среде духоборов и молокан, и последние даже называли Сковороду «апостолом христианства». В 1912 году, публикуя его сочинения, В. Д. Бонч-Бруевич, много занимавшийся историей сектантства, пришел к выводу, что Сковорода являлся одним из теоретиков русских «духовных христиан».
С другой стороны, неоднократно высказывалось мнение о близости отдельных идей философа к воззрениям масонов, в среде которых имя его также было известно, а отдельные труды даже печатались в масонских изданиях.
Кажется, уже сам факт одновременной популярности произведений Сковороды в таких трудно-соотносимых друг с другом течениях, как старообрядчество, сектантство и масонство, снимает вопрос о непосредственной связи мыслителя о тем или иным из этих течений.
Кроме того, все факты использования сочинений Сковороды в книжном обиходе упомянутых течений относятся ко времени, когда автора этих сочинений уже не было в живых.
Главное же, имеется на этот счет и совершенно недвусмысленное высказывание самого Григория Саввича. Его приводит Михаил Ковалинский, излагая содержание многодневного собеседования, которое состоялось между ним и Сковородой в августе 1794 года. Об исключительных обстоятельствах этого собеседования мы еще скажем впереди, а пока что заметим только, что оно стало для мыслителя своеобразным подведением мировоззренческих итогов; Сковорода высказался тогда по всем наиболее важным проблемам собственного творчества.
Что касается вопроса об отношении к «сектам», то ею, видимо, поднял ученик: «Речь доходила тут до разных толков или сект». Интерес Ковалинского к мнению Сковороды вполне понятен. Михаил, приехавший из столицы, достаточно информирован о религиозно-мистических брожениях в великосветских кругах Петербурга и Москвы, он знаком со взглядами и деятельностью масонов — в частности, московских мартинистов. Масонский вопрос — злоба дня: всего два года назад императрица официально запретила масонские ложи в России; тогда же виднейший из мартинистов, Н. И. Новиков, без суда и следствия был заточен в Шлиссельбургскую крепость. В чем-то взгляды масонов близки Коваленскому, в чем-то — по его представлениям — эти взгляды явно перекликаются с тем, что он неоднократно слышал от Сковороды (например, хотя бы этот, постоянно звучащий в диалогах учителя призыв — «познай себя!»). Но многое и смущает его: скрытность «каменщиков», их сословная брезгливость, пристрастие к вычурным обрядам…
И вот ответ Сковороды: «Всякая секта, — говорил он, — пахнет собственностью, а где собственномудрие, тут нет главной цели или главной мудрости. Я не знаю <мартынистов>, — продолжал он, — ни разума, ни учения их; ежели они особничествуют в правилах и обрядах, чтобы казаться мудрыми, то я не хочу знать их; если же они мудрствуют в простоте сердца, чтоб быть полезными гражданами обществу, то я почитаю их; но ради сего не для чего бы им особничествовать. Любовь к ближнему не имеет никакой секты…»
Как видим, Сковорода высказывается здесь гораздо шире, чем только о масонах. Ов говорит о сектантстве как о типе социального поведения, как о болезненном проявлении гордыни человеческой: «Любовь к ближнему не имеет никакой секты». В этих словах не только укор всякому мировоззренческому «особничеству», но и совершенно четкая характеристика личной позиции. Сектантство плодит вражду, его можно уподобить стихийному потопу. «Призри, пожалуй, на весь сей земный клуб, — пишет Сковорода в диалоге «Потоп змиин», — и на весь бедный род человечий. Видишь ли, коль мучительным и бедственным ересей, раздоров, суеверий, многоверий и разноверий потопом волнуется, обуревается, потопляется!»
Но почему все-таки — при столь недвусмысленном личном отношении Сковороды к современным ему религиозным оппозициям — имя его делается спустя десятилетия популярным в некоторых из них?
Думается, единственное объяснение состоит в следующем. Перед всяким сектантским движении рано или поздно возникает — и весьма остро — проблема единомышленников. Автор сочинений, в которых многие догматические вопросы осмысляются достаточно свободно, герой легенд и анекдотов, то и дело говорящий «дерзости» духовным начальникам, — такой Сковорода вполне мог подойти в качество единомышленника и, как мы видели, подошел, хотя его религиозный критицизм носил принципиально иной характер, чем у «канонизировавших» его имя сектантов.
Разница — и надо подчеркнуть, принципиальная разница — состояла в том, что Сковорода — критик религиозного формализма — все-таки никогда не доводил своих отношений с ортодоксальной церковью до прямого разрыва в делал это вполне сознательно, а не в силу каких-либо внешних причин, не позволявших ему решиться на подобный разрыв.
И тут нам нужно будет присмотреться к одной знаменательной черте в его облике — черте, так часто уже попадавшей в поле зрения. Речь идет о пресловутой чудаковатости Сковороды, о его склонности к поступкам и действиям, выходящим за рамки житейских норм. Саму по себе эту черту разглядеть в нем совсем не трудно, гораздо сложней дать ей верное истолкование. Ведь с «чудака», как мы теперь понимаем это слово и обозначаемый им тип поведения, спрос невелик. С «чудака» многое списывается. «Чудак» рассчитывает на снисходительность, на то, что при всей необычности своих слов и поступков он во мнении окружающих остается в общем-то милым и вполне приемлемым человеком. Его роль в конце концов делается некоторой услугой обществу, скучающему без «чудаков», без их легкой, изящной и вполне респектабельной клоунады. Он — партнер в игре, условия которой хорошо известны как одной, так и другой стороне. И вот «чудак» превращается в оригинала, в своего рода общественного затейника, от которого ждут новых, никому не обидных трюков.
Бытовые и литературные склонности неуживчивого Сковороды — совсем иного рода, чем приспособительное, «себе на уме», поведение типичного «чудака» профессионала. Сковорода мог поступать и говорить странно и даже «дико» вовсе не в расчете, так сказать, на публику, а в силу того, что гаков был органически свойственный ему тип общественного поведения. В одном месте своих «Записок» И. Срезневский говорит: «Сковорода заслуживал часто имя чудака, если даже и не юродивого». Весьма показательна тут оговорка «если даже и не». Автор будто несколько постеснялся того, что Сковороде может быть накрепко приписана склонность к юродству, столь несерьезная с точки зрения просвещенного интеллигента XIX века.
Между тем странности Сковороды действительно отчасти носили в себе черты юродства, и только такое понимание даст нам возможность увидеть истинный характер его отношения к ортодоксальной церкви.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Григорий Сковорода"
Книги похожие на "Григорий Сковорода" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Юрий Лощиц - Григорий Сковорода"
Отзывы читателей о книге "Григорий Сковорода", комментарии и мнения людей о произведении.