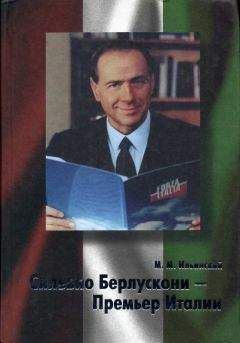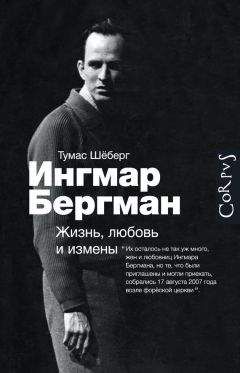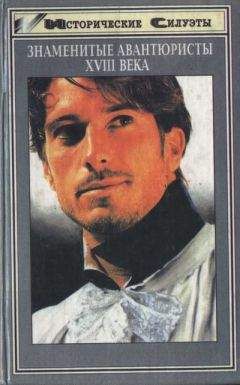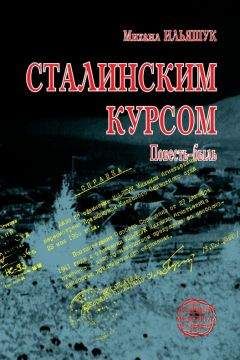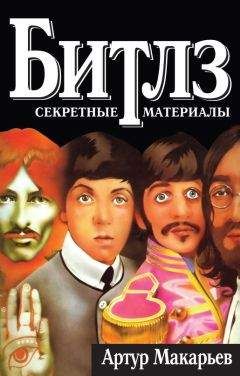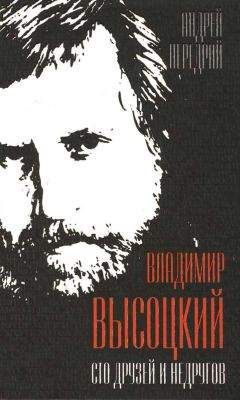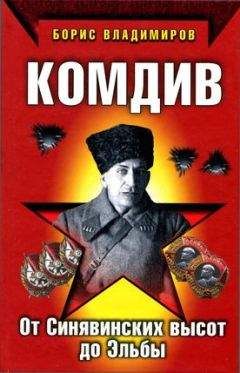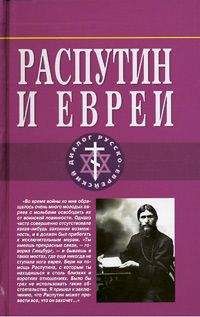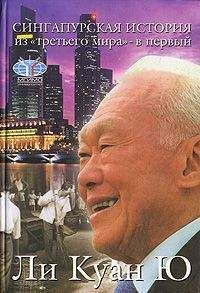Раймон Арон - Мемуары. 50 лет размышлений о политике
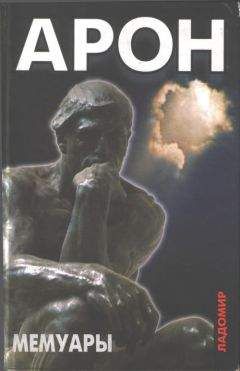
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Мемуары. 50 лет размышлений о политике"
Описание и краткое содержание "Мемуары. 50 лет размышлений о политике" читать бесплатно онлайн.
Эта книга — повествование о встрече, встрече жестокого Века и могучего Ума, жаждавшего познать его. Ее автор, французский философ и журналист-политолог, живя в 30-е годы в Германии, одним из первых разглядел в социально-политических процессах этой страны надвигающуюся всемирную катастрофу. С тех пор стремление понять политическую жизнь людей стало смыслом его существования.
Тем, кто откроет книгу, предстоит насладиться «роскошью общения» с Ш. де Голлем, Ж.-П. Сартром и другими великими личностями, которых хорошо знал автор, этот «Монтень XX века», как его окрестили соотечественники.
Не стал я спорить и по поводу «Варварства с человеческим лицом» (не считая цитаты оттуда с моими ироническими замечаниями в статье на страницах журнала «Коммантер»). Затем последовало «Завещание Бога» («Le Testament de Dieu»), Претенциозность названия, как и книги в целом, категоричные суждения об Иерусалиме и Афинах, основанные на поддельной эрудиции, помешали мне оценить блеск риторики, заимствовавшей у стиля Мальро некоторые из достоинств, как и некоторые из недостатков.
Обстоятельства побудили меня выступить с критикой «Французской идеологии». Перед этим я сказал по телефону Жан-Франсуа Ревелю, что эта книга, по-моему, лучшая из трех, но в то же время не посоветовал выбрать ее «книгой месяца» «Экспресса». В самом ли деле она лучшая из трех? Возможно, я ошибался. Возможно, «Завещание Бога», несмотря ни на что, более значительное произведение. Мне следовало тогда сказать, что эта книга прикасается к болезненной струне французской совести и что, в отличие от двух предыдущих, она рассматривает актуальную, нестареющую историческую проблему: предшественники и потомки Виши.
Вишистское правительство поставило Францию в особое положение во время последней войны; единственное из всех правительств оккупированных стран, оно до конца отстаивало свою легитимность, яростно боролось против вмешательства в свои прерогативы оккупационных властей — вплоть до того, что брало на себя ответственность за самостоятельное осуществление позорящих его действий (например, депортации евреев). Независимо от дипломатического выбора 1940 и 1942 годов, вишисты провозгласили специфически французскую доктрину, не продиктованную оккупантами. Как сформировалась идеология Виши? Интересы каких кругов она выражала? Как можно охарактеризовать ее в сравнении с итальянским фашизмом, национал-социализмом, франкизмом, салазаризмом?
Здесь не место отвечать на эти вопросы. Я посвятил «Французской идеологии» статью, уступив настоятельным просьбам друзей, в основном евреев, которые возненавидели эту книгу именно из-за чрезмерности ее выводов и опасались возможного недоразумения. Они не хотели, чтобы Б.-А. Леви, разоблачитель определенной французской идеологии, общей для Мориса Тореза и маршала Петена, был сочтен выразителем мнений еврейского сообщества. Много ли нашлось бы французов, не подпадающих под обвинения этого Фукье-Тенвиля 330 из литературного кафе?
В своем ответе на мою статью Б.-А. Леви поднимает серьезный вопрос. Проявляют ли евреи малодушие, если соблюдают то, что применительно к некоторым государственным чиновникам именуется обязательством сохранять осторожность в высказываниях? Я уже рассказывал, что один из моих друзей, нисколько не антисемит, призывал меня в 1937 или 1938 году к «сдержанности» во французских спорах о том, как Франции надлежит вести себя по отношению к гитлеровской Германии. Существование Государства Израиль также, хотя и иначе, нежели предгитлеровская Германия, ставит проблему двойного «подданства».
Евреи, не пережившие 1933–1945 годы, зачастую смотрят сверху вниз, этак снисходительно, на своих родителей или дедов, которые по-прежнему заботятся о том, как бы не «спровоцировать антисемитизм»; подобная озабоченность кажется этим молодым людям тщетной, более того — достойной презрения. Антисемитизм, как писал Жюльен Бенда, возникает из потребности ненавидеть, из агрессивного стремления, а не вследствие поведения самих евреев. Считать необходимым для себя соблюдать сдержанность, все равно при каких обстоятельствах, — значит признать различие между собой и другими. Если твой выбор — быть французом, если ты и есть француз, такой же, как все твои соотечественники, то почему ты должен колебаться, прежде чем высказаться по какому бы то ни было вопросу?
Довод мог бы убедить, если бы сегодняшние евреи еще только стремились к воссоединению, если бы их еврейство оставалось чисто духовным. С тех пор как совесть связывает евреев с Израилем, государством среди других государств, хотя и представляющим некоторые особенности, французы-неевреи вправе спросить их, к какому политическому сообществу они принадлежат. Пока человечество останется разделенным на более или менее «могущественные государства», евреи диаспоры, свободно определяющие свою судьбу, должны выбирать между Израилем и «принявшей их страной», которая стала их родиной. Являясь гражданами Французской Республики, они на законных основаниях поддерживают духовную или нравственную связь с израильтянами, но если эта связь с Израилем становится политической и оказывается для них важнее французского гражданства, этим людям нужно бы по логике вещей выбрать для себя израильское гражданство.
Б.-А. Леви обличает, скорее пылко, нежели обоснованно, всех мыслителей или писателей, которые так или иначе развивали идеи, близкие к вишистским, а именно контрреволюционные, антисемитские, общинно- или корпоративно-доктринерские и т. п. Он ополчается на всех тех, кто прославлял Францию телесную, историческую, созданную ее землей и всеми, кто в ней жил и умер. Для него самого приемлема только Франция 1789 года с ее символом — Праздником Федерации, общей и свободной клятвой, которую все провинции дают единой и неделимой Республике. Всеобщее равенство в правах и обязанностях — такова Франция, рождающаяся из согласия своих детей, единственная Франция, которую любит Б.-А. Леви, столь же абстрактная, сколь абстрактна его любовь к ней. Да, родина прав человека, родина Революции оспаривалась на протяжении всего XIX века многими французами, возможно большинством из них; антисемитизм процветал в нашей стране так же, как в Германии. Именно дело Дрейфуса пробудило от спячки ассимилированного еврея Теодора Герцля и вдохновило его на сионизм. Да, институты и даже нравственные основы либеральных демократий были безжалостно раскритикованы, отброшены, растоптаны модными публицистами в 30-е годы. Робер Арон, Арно Дандье, Эмманюэль Мунье ненавидели плутократические демократии на свой лад, отчасти родственный фашистскому. Вишизм первого периода позаимствовал свой дух у «Аксьон франсез», а также у мелких групп, «мыслительных обществ», которые оказывали довольно значительное влияние на умственную жизнь, но до войны сохраняли маргинальное положение, не выходя на собственно политическую деятельность.
Для Франции характерен не только тот факт, что на ее почве расцвели многие идеи, родственные идеям итальянского фашизма и германского национал-социализма, но также и то, что они ни разу не привели к возникновению подлинного фашизма или национал-социализма, не породили хотя бы серьезной опасности правого авторитаризма, если не считать исключительных обстоятельств оккупации. Во Французской академии антисемитизм облекался в форму негласно соблюдаемой квоты; «Аксьон франсез» и Моррас были духовными наставниками морских офицеров, провинциальных дворян и хорошего буржуазного общества Парижа; но ни партия полковника де Ла Рока[271] — преемница «Огненных крестов», — ни партия Жака Дорио не приблизились к критической массе. Дело Дрейфуса свидетельствует о сопротивлении французов опасной болезни антисемитизма и «патриотической фальшивке». Что касается 30-х годов, то и они, как мне кажется, говорят об аллергии нашего народа к правым революциям: наши учителя начальных школ — и современники Жюля Ферри, и те, кто жил в годы Второй мировой войны, — держались стойко. В начале века их патриотизм был укоренен в идеях Революции, в доктрине прав человека и в рационализме. Во Франции не было недостатка в фашистских или околофашистских идеологиях, но этим идеологиям не хватало толп, готовых их принять и сражаться за них.
Ни у Эмманюэля Мунье, ни у Юбера Бёв-Мери не возникло в 1940 году деголлевской реакции, то есть простого убеждения, что война продолжается и поражение в битве за Францию не решает исхода борьбы; нужно сражаться, момент же реформировать Францию не наступил — реформа под наблюдением оккупантов была бы заведомо дискредитирована. Как и большинство французов, эти «новые философы» 30-х годов не сразу заняли позицию, которая нам ретроспективно представляется наилучшей. Молодому и красноречивому инквизитору, который предает суду всех подозрительных — тех, кто немедленно не отверг Маршала, или тех, кто ушел в маки только в 1943 году, — следовало бы, по крайней мере, понять, какую роль сыграли протест против пришедшей в упадок Третьей Республики и стремление иметь другую Республику, где было бы меньше радикалов с бородкой и брюшком.
Книга Б.-А. Леви не заслуживает вызванной ею обширной полемики, однако отклик, который она нашла в некоторых кругах, наводит на размышления. Не имеет особого значения злоупотребление цитатами, переходящими из одного сочинения в другое. Что меня поражает, так это чувства, которые выказывают евреи по отношению к «принявшей их стране», приходящие в восторг от этого памфлета, этой обвинительной речи в адрес большой части Франции и ее культуры. Неужели некоторые евреи молодого поколения зашли так далеко, что ненавидят родину, которую выбирают?
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Мемуары. 50 лет размышлений о политике"
Книги похожие на "Мемуары. 50 лет размышлений о политике" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Раймон Арон - Мемуары. 50 лет размышлений о политике"
Отзывы читателей о книге "Мемуары. 50 лет размышлений о политике", комментарии и мнения людей о произведении.