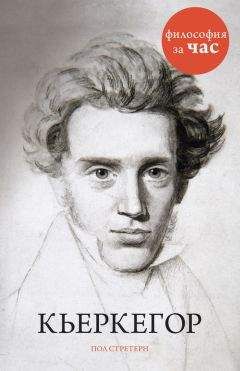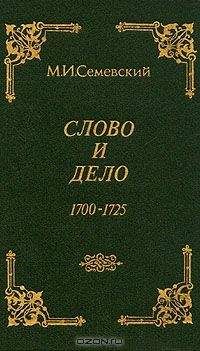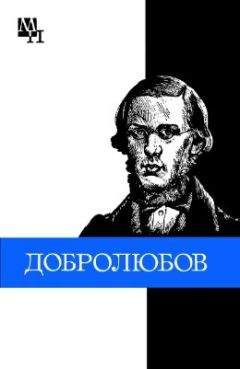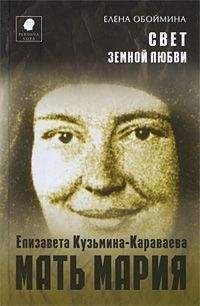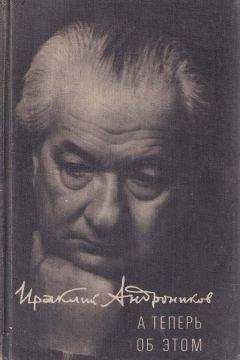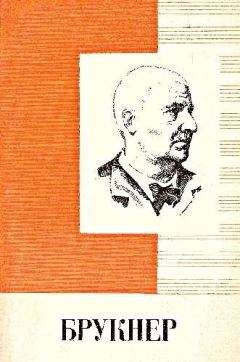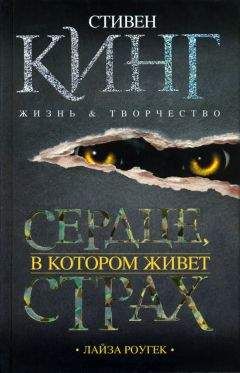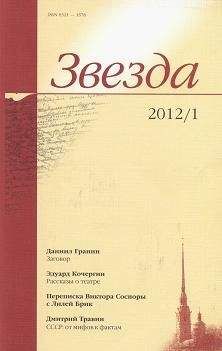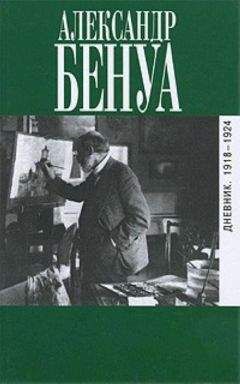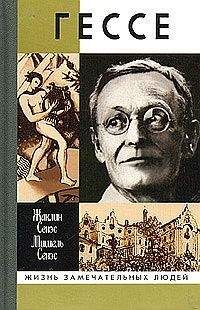Никита Гиляров-Платонов - Из пережитого. Том 1
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Из пережитого. Том 1"
Описание и краткое содержание "Из пережитого. Том 1" читать бесплатно онлайн.
Отметки в нотату вносились «авдиторами», то есть лучшими учениками, между которыми разделен был класс и которых обязанность была выслушивать ученические уроки пред приходом учителя. Сами авдиторы тоже «слушались» у другого кого-нибудь.
«Дневальный», по-старому «эдиль», о, эта должность замечательная! На ней чередовались поденно все, начиная от первого до последнего. Обязанность дневального — подмести класс, а для этого иметь в запасе метлу; иметь наготове мел и тряпку (не губку, о которой понятия не имели), и наконец, на обязанности же дневального лежало приготовить «лозы» (розги). В течение шестилетнего курса ни разу не приходилось мне нести фактические обязанности дневального, хотя по очереди я и числился наряду с другими. В первые три года подступающая очередь всегда повергала меня в беспокойство: где я возьму метлу или лозы? Но судьба постоянно меня избавляла, потому что в каждом классе были бескорыстные любители дневальства, для которых приготовить метлу и лозы было своего рода страстию. Он пойдет в лес, выберет самые гибкие, самые плакучие ветви, устроит метлу и в особенности совьет лозу артистически, щегольски, художественно. Пусть, между прочим, на свою спину, но охота не теряла от того своей прелести. Она бывала уделом тупых к учению мальчуганов, но из них были мастера на все руки. Они были прекрасные рыболовы; благодаря им бурса лакомилась иногда раками, для ловли которых тот же любитель дневальства доставал обруч и переплетал его крест-накрест мочалами. С приближением зимы охота за синицами; у иного есть пара голубей, за которыми он ходит с нежностью матери. Класс для него такое же дитя. Не углубляясь в науки, он ото всего сердца заботился тем не менее, чтобы классная комната была в наружном порядке, чиста и опрятна, насколько хватает идеала опрятности. Артист дневальства есть сиделка за больным. Не помню, в котором я был классе, но в бурсе заболел и умер один оспой. Нашлись добрые сердца, и именно из плохо учившихся, которые сидели около больного, ухаживая за ним, пропуская для того класс и подвергаясь опасности быть поставленными за то на колени (да, конечно, и ставили их). Такие люди всегда находились для каждого класса: их надобно было искать в конце списка, а в самой зале классной — среди вечно коленопреклоненных. И опять, как вспомню об этом, сколько способностей гибло от одного несоответствия их с обязательным курсом! Добрые сердца, смышленые умы, деятельная воля, подвижность всего существа, и идет звонить на колокольню среди снисходительного пренебрежения однокашников-товарищей и под более грубым презрением старших — попа, благочинного, не говоря об архиерее! А вышел бы и не звонарь.
Женские институты старого времени делились на отделения: первое, второе и третье. Каждое слушало свой курс, хотя из тех же предметов (за исключением третьего, курс которого, кажется, был ограниченнее).
Сколько я слышал, такое разделение отменено теперь. Но по-настоящему, при каждом училище должно бы быть место для отседа менее способных, пожалуй, и столь же даже более способных, но по другому роду развития. В неоднократных беседах с покойным А.П. Ахматовым (бывшим обер-прокурором Святейшего Синода перед графом Д.А. Толстым), ввиду предпринимавшегося преобразования духовных училищ (последнего), я раскрывал ему эту мысль подробно, чуть ли не подал об этом даже записку. Устройство параллельных классов при семинариях и училищах, не на теперешнем основании полного равенства курсов, а именно с применением к различию способностей, не потребовало бы особенных расходов, а между тем повысило бы курс духовной школы, оставив для нее только отборные зерна, с тем вместе не оставив без воспитания, может быть, целую половину, для которой тяжела головоломщина. В том и заключалась жалкая особенность старой духовной школы, что умственная выправка, которую она давала, была не для дюжинных натур. Отсюда бьющая глаза противоположность: наряду с выдающимися умами, с оригинальными и глубокими мыслителями, с учеными, поражающими разносторонностью знаний, она выпускала олухов, невежд, за которых стыдно пред четырехклассниками гимназий; выпускала, заметьте, таких олухов по окончании курса наряду с Павским, Голубинским, Горским, Надеждиным.
Я два раза упомянул о бурсе. Была она у нас и в теснейшем смысле слова, то есть в виде казеннокоштных учеников, воспитывавшихся на «полном коште» и на «полукоште». При всей тогдашней моей неприхотливости я не мог входить без содрогания и оставаться долее нескольких минут в грязных и душных казармах, служивших помещением для бурсаков в нижнем этаже бывшей консистории. Особенно отличалась одна, почти лишенная даже света, который заслонен был стеной монастырского двора с одной стороны и стеной собора с другой. Грязи на полу не менее осьмушки вершка; по крайней мере половицы не были видны; по веснам и в дождливую погоду стояли лужи, стекавшие со двора (пол был ниже двора). На убогих кроватях (деревянных) подушки тиковые, с грязью опять настолько толстою и настолько долговременною, что лоснились. Не описываю внутренней жизни бурсаков, с которою незнаком. Но бурсаки казались мне вообще грубее своекоштных, потому ли, что набирались из такого слоя, полные сироты и дети сельских причетников, до семи или восьми лет не видавшие нравственных попечений; или потому, что, несмотря на близость к начальству, надзор был за ними и в бурсе слабее в сущности, нежели над своекоштными. Своекоштные жили небольшими кучками на квартирах под присмотром все-таки хозяек и хозяев, до известной степени ответствовавших пред родителями.
Полнокоштному бурсаку давали, кроме помещения и стола, затрапезный халат, фризовый сюртук (праздничная одежда), тулуп нагольный, картуз и сапоги. Нижнего платья и жилета не полагалось. Платье носилось до последней возможности; продырявленные локти были не редкость. А сапоги… о! сапоги шили такие, что я дивлюсь, где находили сапожника. Они были обыкновенные личные, мужицкие, но столь прочные, что выводили ребят из терпения, и видал я, как иной, насыпав полсапога песком, нарочно бьет им об стену, авось отвалится подошва, — подлое варварство с вещью, данною из благодетельного сострадания, но психологически понятное!
Учреждение «старших» замыкало конституцию школы. Они были из синтаксистов, и на их обязанности лежал надзор за домашним житьем и бурсаков, и квартирантов. В каждом из четырех бурсацких нумеров был свой старший. Кроме того, несколько старших было для квартирных, надзор за которыми разделен был по районам города. Их обязанностью было от времени до времени навещать ученические квартиры и смотреть, добропорядочно ли там поживают.
Такова была иерархия из самих учеников. Поверх их на оба училища пять учителей; из них двое занимали с тем вместе один смотрительскую, другой инспекторскую должность.
ГЛАВА XII
ВРЕМЕННОЕ ОТУПЕНИЕ
Как смутно, как темно! Напрягаю усилия, и память отказывается служить. Следующие два года за приходским училищем, то есть пребывание мое в Низшем отделении уездного, или, как называли у нас, в Грамматике, почти пропали для меня; пропали глубже, нежели год предшествовавший. Два года! Сколько было экзаменов, прошла целая вакация, потом самая последовательность этих двух лет, чем один год отличался от другого, все потонуло во мраке. Остались некоторые отрывки, иные даже неизвестного времени. А мне уже было 8 — 10 лет. Что это значит?
Читатель не осудит меня, что я занимаюсь своею личною судьбой, по его мнению, может быть, более надлежащего. Пускай тогда он бросит чтение. Проследить личное развитие — одна из целей, побудивших меня взять перо. Здесь вопрос не о том, чье развитие описывается, а о психологическом факте, иногда странном, и я ловлю такие факты. Имею притязание думать, что они не лишены научного значения.
Читатель помнит, что весело, шутя прошел для меня первый год школы. Все давалось легко. Я был сообразителен и улыбался, когда мои сверстники сбивались на вопрос, задаваемый Иваном Васильевичем: «У Ноя было три сына: Сим, Хам и Иафет; кто их был отец?» Ребята заминались, мне было смешно. Я живо писал грамматические разборы, бегло отвечал на все вопросы в пределах программы. На публичном экзамене чем-то даже особенным отличился вместе с Яковом Никулинским, «билетным», которого только привезли пред экзаменом и которому нашли справедливым дать место первого ученика, мне — второго. Но потом вдруг будто оборвалось. Позднейшее осталось темнее и в памяти, и самое развитие стало туже, как будто остановилось (оттого, очевидно, и в памяти осталось мало).
В классе, куда я поступил, началась латинская и греческая грамматика. Кроме того, продолжалась и русская; в программе еще стояли славянская грамматика и церковный устав; катехизис с арифметикой и нотным пением сами собою. Внешняя особенность, для меня оказавшаяся существенною, была та, что класс уже имел не один десяток учеников. Из приходского в уездное или из Фары в Грамматику переводили ежегодно; в Грамматике же курс был двухгодичный. Таким образом, одним приходилось сидеть два года, другим три года. Мы попали в «курсовой» год; чрез два года мы можем перейти в Синтаксию; но ранее нас годом перешедшие дождались нас и перейдут с нами вместе чрез три года по поступлении в Грамматику. Существенно было то в этом обстоятельстве, что мы, новички, должны были догонять тех, кто ранее тому же учился целый год, и самою судьбой, стало быть, мы были обречены оставаться слабейшими.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Из пережитого. Том 1"
Книги похожие на "Из пережитого. Том 1" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Никита Гиляров-Платонов - Из пережитого. Том 1"
Отзывы читателей о книге "Из пережитого. Том 1", комментарии и мнения людей о произведении.