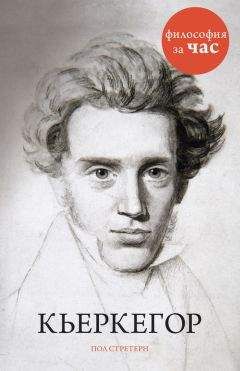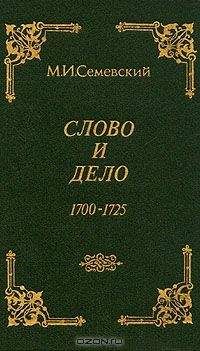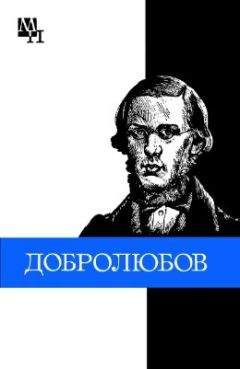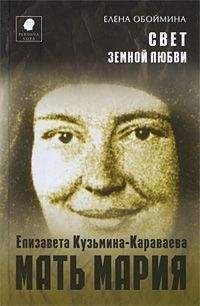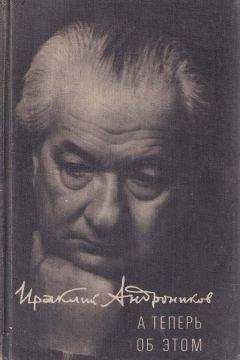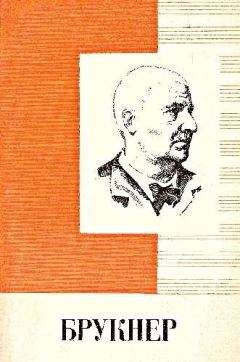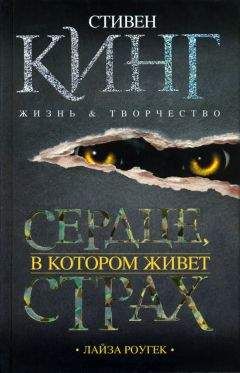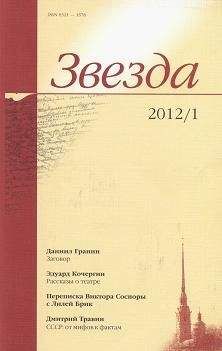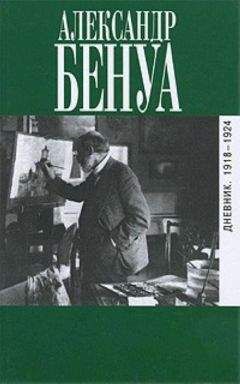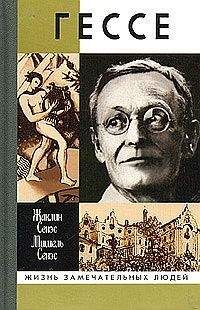Никита Гиляров-Платонов - Из пережитого. Том 1
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Из пережитого. Том 1"
Описание и краткое содержание "Из пережитого. Том 1" читать бесплатно онлайн.
Слыхал я беседы и о государе, и о высших правительственных местах, но представления были детские, отчасти сказочные. С любовью передавались рассказы, на большую половину мифические, о царских детях Александре и Константине, их разных характерах, их времяпровождении, саги о Константине Павловиче, который-де не умер, а скрывается и находится с государем-братом в переписке. Этим мифическим рассказам не верил сам, кто рассказывал: это была народная поэзия.
Отдам справедливость моим землякам: к двум общественным вопросам они были неравнодушны — к военному постою и к городской стене. Постоем сильно тяготились: состоятельный гражданин за долг почитал иметь два дома, из коих один для постоя. Учреждение городских казарм было общим желанием, и оно потом было исполнено. Негодовали горожане, что из материалов городской стены местные власти строят дома, даже хлопотали в высших сферах о ее поддержании и даже успели, правда, отчасти только. Стены валились, крошились; упала и Мотасова башня, о которой была речь выше (в первой главе). Упала она почти на моих глазах. Еще за несколько месяцев обнесена была она забором по берегу и по самой реке; событие очевидно было предвидено. Страшный грохот заставил меня раз вздрогнуть, когда я шел из училища домой обедать; а когда после обеда возвращался на вечерний класс намеренно «низом», то есть ближайшею к берегу улицей, на берегу и в воде лежали глыбы камней наместо высившейся башни; она рухнула с самого основания, подгрызенная временем и водой в своей подошве.
Жизнь горожане вели затворническую. Лавка и церковь — вот единственные места выходов, и первая притом исключительно для мужского населения, если не считать торговок, сидевших в палатках или с лотками на открытом воздухе. Откуда этот теремной режим, когда в высшем сословии терем уже кончился, а в низшем, то есть крестьянском, его даже не бывало? И тем удивительнее, что купечество пополнялось выходцами из деревень же. В том же Деднове, тех же Ловцах, откуда вышел купец-гуртовщик или грузовщик, дед и даже отец его, даже, может быть, сам он был обыкновенным крестьянином, и жена его с дочерью не сидели за занавесками окон, с боязнию даже посмотреть на проходящих по улице. Тем не менее, со вступлением дедновца в купечество, вступал в свои права и терем, эта анахроническая пародия на боярство, которое само освободило свой женский пол от затворничества. С ужасом рассказывали по Коломне, и вероятно в преувеличенном виде, о неожиданно эманципировавшейся даме купеческого семейства, которая открыто принимала уланских офицеров и — о ужас! — даже каталась с ними. Кататься можно женщине из приличного семейства; но на это положено определенное время, Масленица, когда по назначенному десятилетиями, а может быть веками, маршруту вереницы экипажей совершают круг по городу, причем повелевается преданием сидеть неподвижно, со взором, безжизненно устремленным в спину кучера.
Я сказал о Деднове, из которого по преимуществу пополнялось коломенское купечество. Дедново — невольная колония Великого Новгорода, царем ли Иваном, или ранее того населенная. В этом селе есть София, существуют «концы», как в метрополии; слышатся следы и новгородского наречия; но предания политической свободы исчезли, тем более что к моему времени Дедново было уже в крепостном владении фаворита Екатерины, Измайлова, славившегося, между прочим, сумасбродными потехами и необузданным характером. Он заманивал исправников и заседателей, чтобы высечь, находя в этом удовольствие. В своем епифанском имении он пригласил раз из города соборное духовенство с чудотворной иконой. Отправилось духовенство, хотя недоумевало о внезапном приливе набожности у вельможи, слывшего за вольнодумца. Встретили с почетом экипаж, привезший икону и духовенство. Вносят чередом икону в залу; священник или протоиерей начинает молебен в присутствии безногого барина, вкаченного на кресле. Но в ту же минуту отворились двери с обоих боков, и с одной стороны входят музыканты, с другой вбегают наряженные плясуны. Начинается пляска. «Пляши, отец! — приказывает хозяин (а за ним гайдуки с нагайками), — иначе запорю». Колебался служитель алтаря, но вынужден был отплясывать в облачении в такт скоморохам пред иконой. «Ну, батька, благодарю, отвел душу! — воскликнул утешенный сумасброд, отсыпая горсть золотых. — Вот тебе за потеху. А если бы заупрямился, жив бы отсюда не вышел». Это рассказ моей тещи, епифанской родом. От нее же слышано следующее. Козлов, брат ее воспитательницы, сенатор, охотился вместе с Измайловым, который ему доводился соседом. Повздорили о чем-то. На обратном пути Измайлов, смягчившись внезапно, стал усиленно приглашать Козлова к себе. «Нет, брат, слуга покорный», — отвечал сенатор, пересел в свой экипаж и велел кучеру ударить по лошадям. — «Умно, братец, сделал, — признался Измайлов при следующем свидании с Козловым, — было бы худо».
Должно быть, окрестности Коломны, как пограничного со степью и инородцами города, вообще служили местом ссылки. Сужу так по разнообразию произношения; не выходя из города, я слышал, и притом частию от горожан, частию от подгородных, и щоканье, и цоканье, и смягчение, и расширение гласных: цаво (чего), лебСще (либо что), нашелси впиреди, лезя (лезет), идёть (идет) и т. п.; и притом у разных разное, в одном селе та, в другом другая особенность: ясный след происхождения из разных мест и от разных племен.
ГЛАВА XVIII
КНИЖНЫЙ МИР
При отсутствии игр и сверстников, в однообразии быта, среди мертвого окружающего я, подобно отцу, находил утешение в книгах. Как я читал? Когда начал читать? Что читал? Но я не помню, чтобы при первом досуге не держал в руке книги, с тех пор как выучился читать; не знаю книги, которую бы видел и не воспользовался случаем прочитать ее. На нижних полках нашего домашнего шкапа лежали книги, исключительно, помнится, Екатерининского времени; я их прочитал и перечитывал все, за исключением отвлеченных рассуждений вроде известного «Наказа». Раз у кого-то, когда ходили по приходу, оставлены мы были откушать чаю; лежала книга на окне; в течение беседы хозяина с гостями я пред открытым окном (был теплый весенний день Пасхальной недели) прочел книгу, которая оказалась, как после я узнал, «Баснями» Крылова; ни прежде, ни после долго я их не видал. В светелке на окне кем-то оставленная книга в осьмушку, в кожаном переплете с золотым обрезом, привлекла по обыкновению мое внимание; я взял ее и в саду за один присест прочел. Это была часть исторических книг Ветхого Завета, на славянском, конечно, языке. Чтоб это была Библия — я этого не ведал, да не знал и того еще, что есть на свете книга, называемая Библией (хотя уже начинал учить катехизис). Но с тех пор я и еврейских царей, и историю Товита дознал вполне. Мыло ли, сахар ли принесли из лавки завернутым в лист с печатными строками: это был макулатурный лист, но я прочел его; он оказался анекдотами о Балакиреве. Я сложил лист и даже упросил Ивана Евсигнеевича заброшюровать его. У школьников попадались книги, из которых, помню, прочтены: «Гуак, или Непреоборимая верность», сказки о Бове Королевиче, Еруслане Лазаревиче, «История Францыля Венциана», «Похождения» Ваньки Каина, Картуша, Совестдрала Большого Носа, «Похождения пошехонцев», «Не любо не слушай», «Пересмешник», «Письмовник» Курганова, «Гадательная книга». Это по части народной литературы, и притом книги; сказка об Емеле Дурачке и другие принадлежали лубочным брошюрам; «Мыши кота погребают, или Мороз Красный Нос» — листы той же печати. Эти картины с текстом высмотрены и прочтены преимущественно при хождении по приходу, во время «Христос воскресе», которое выпевалось одновременно с тем, как пробегал я глазами на листе, прибитом к стене гвоздями, картину. Тут попадались и Ноевы сыновья («Сим молитву деет, Хам пшеницу сеет, Иафет власть имеет»), и Шульгин, московский обер-полицеймейстер, и Бобелина, греческая героиня, и Паскевич с Дибичем, и храм Петра в Риме, и перевал какого-то войска через горы: между прочим, сидит солдат на пушке и его спускают. Эти две картины с иностранными подписями. А одна из самых замечательных была портрет Константина Павловича, награвированный между 19 ноября и 14 декабря, с подписью: «Император и Самодержец Всероссийский».
Сказанное сейчас относится к мимоходному чтению. Но у отца было постоянное чтение. Всегда на его столике лежала книга с закладкой на том месте, где он остановился; иногда, сверх того, газета, именно «Московские ведомости», тогда издававшиеся в четвертку форматом. В отсутствие отца то и другое читалось и мною непременно, и из постоянного чтения «Московские ведомости» едва ли не было первым. Тогда шли испанские дела (в начале тридцатых годов) и происходило ирландское движение; я узнал о христиносах и карлистах, об Эспартеро и Сумалакаррегви, об О'Коннеле и Мельбурне. А затем выучил наизусть текст извещения о высокоторжественных днях, которое излагалось по неизменному шаблону с неизменным окончанием: «после чего на Ивановской колокольне происходил обыкновенный звон». Разнообразились только имена священников, говоривших в данный день проповедь, и иногда имена архиереев, отправлявших «благодарственное Господу Богу молебствие». Книга, лежавшая на столике, была или журнал какой-нибудь, или вообще новая книга, купленная И.И. Мещаниновым и данная отцу на прочтение.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Из пережитого. Том 1"
Книги похожие на "Из пережитого. Том 1" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Никита Гиляров-Платонов - Из пережитого. Том 1"
Отзывы читателей о книге "Из пережитого. Том 1", комментарии и мнения людей о произведении.