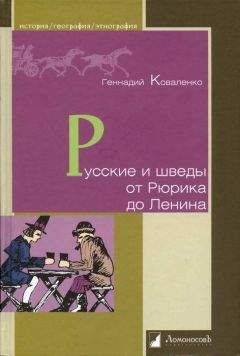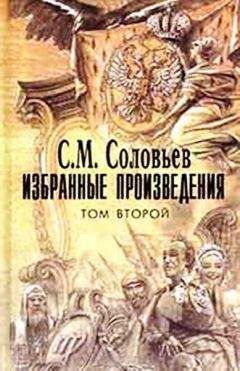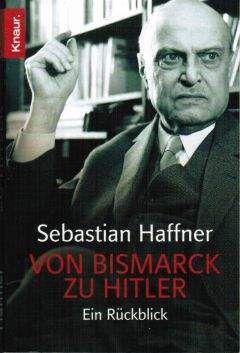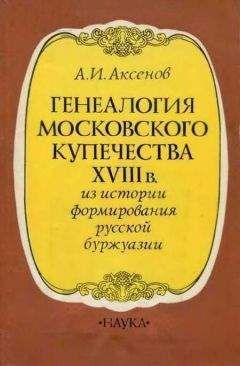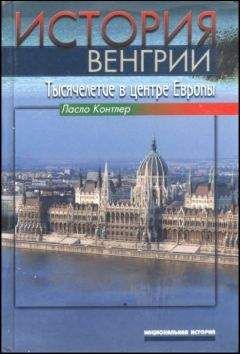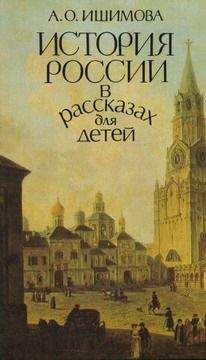Александр Лаппо-Данилевский - Методология истории

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Методология истории"
Описание и краткое содержание "Методология истории" читать бесплатно онлайн.
Вашему вниманию предлагается работа «Методология истории» историка, философа, академика Петербургской Академии наук — Александра Сергеевича Лаппо-Данилевского. Его перу принадлежат труды и публикации по социально-экономической, политической и культурной истории России XV–XVIII вв., историографии, методологии исторической науки. В основу работы легли читанные им специальные курсы по этой дисциплине в Историко-филологическом институте в Санкт-Петербурге.
Глава третья
Критическое рассмотрение номотетического построения исторического знания
Научно объединенное или обоснованное знание может стремиться и к обобщению данных нашего опыта, и к их индивидуализированию; смотря по познавательным целям, которые мы себе ставим, или по той точке зрения, с которой мы изучаем эмпирические данные, можно в одной и той же вещи разыскивать или общее ей с другими вещами, или то, что именно ее характеризует как таковую в ее конкретной индивидуальности. Следовательно, номотетическое построение, имеющее в виду одно только обобщение, не в состоянии удовлетворить нашего интереса к действительности: при помощи общих понятий оно не может обнять ее многообразие и своеобразие: слишком «редуцируя» и «стилизируя» действительность, оно не дает нам знания ее индивидуальных особенностей; оно не может установить и достаточно обоснованных принципов или критериев выбора конкретных исторических фактов, имеющих историческое значение: с номотетической точки зрения историк легко упускает из виду или произвольно исключает из круга своих наблюдений факты (личности, события и т. п.), которыми история не может пренебречь[135]. Сами приверженцы номотетического построения принуждены считаться с такими фактами, но не дают научного их построения: признавая, например, самостоятельное значение воздействия человеческого сознания на материю, они не обращают внимания на ценность его индивидуального характера; утверждая единичность всемирно-исторического процесса, они все же готовы довольствоваться его типизацией; полагая, что «одна только индивидуальность порождает новые силы общежития», они не определяют именно ее значение для истории и т. п.[136] Впрочем, помимо теоретических соображений, номотетическое построение оказывается недостаточным и с точки зрения практической: оно не дает понятия о той совокупности реально данных условий пространства и времени, в которых протекает наша деятельность и без надлежащего знания которых человек не в состоянии ни поступать правильно, ни действовать с успехом; и в таких случаях сторонники разбираемого направления не располагают принципами, на основании которых можно было бы подойти к решению проблем, столь важных в практическом отношении[137]. Итак, можно сказать, что номотетическое, обобщенное знание не в состоянии дать удовлетворение нашему интересу к исторической действительности.
Приверженцы номотетического построения исторического знания отрицают, однако, возможность с идеографической точки зрения построить его научным образом; они полагают, что можно научно познавать только общее: наука в настоящем смысле слова должна состоять в построении общих понятий; индивидуальное, напротив, не может служить целью познания: оно не поддается научной обработке и формулировке. Впрочем, с аналогичной точки зрения легко было бы допустить, что в той мере, в какой индивидуальное переживается, оно уже в известном смысле познается; только оно познается в совокупности с данными ощущениями, чувствованиями и проч., также входящими в состав переживания, и значит, познание о нем, поскольку оно лично переживается, не может быть научно установлено и передано другому в том именно сложном сочетании, в каком оно переживается. Можно сказать, однако, что понятие об индивидуальном есть предельное понятие: хотя наш разум не в состоянии обнять все многообразие и своеобразие действительности, но мы можем стремиться объединить наши представления о ней путем образования возможно более конкретных комбинаций общих понятий или отдельных признаков, отвлекаемых от действительности; мы можем подвергать содержание такого понятия (в его реальном значении) анализу и с точки зрения генезиса его элементов (если не всей их совокупности, то по крайней мере некоторых из них), и с точки зрения влияния «индивидуального» на окружающую среду. Хотя понятие об индивидуальном и не может быть само по себе приведено в логическое соотношение с каким-либо общим понятием, но научный его характер обнаруживается и из приемов конкретно-исторического исследования. В самом деле, историк, занимающийся построениями индивидуального, приступает к его изучению со скепсиса: он знает, что ему приходится иметь дело со своими или с чужими суждениями о вещах, что они могут не соответствовать действительности и т. д.; он полагает, что ему можно будет выйти из своего скепсиса лишь путем критики, основанной на строго научном анализе своих и чужих суждений о данных фактах; в своей работе историк также выделяет из бесконечного многообразия действительности элементы, нужные ему для построения своего понятия об индивидуальном; если он и не обобщает их, то из этого еще не следует, чтобы он не занимался отвлечением нужных ему элементов своих представлений; вместе с тем он, в известном смысле, стремится комбинировать эти черты, т. е. дать научное построение действительности. Итак, идеографическое построение истории может иметь научный характер; история, и не будучи наукой обобщающей, все же могла бы претендовать на научное значение.
Произвольно ограничивая задачу научного знания, приверженцы номотетического построения лишают себя, однако, возможности устанавливать его разновидности по различию основных познавательных целей: они различают науки лишь по их объектам, например, по «процессам» или по «предметам»; с указанной точки зрения, по словам одного из защитников номотетической теории, история признается такою же обобщающей наукой, как и естествознание, и отличается от него только «другою областью исследования» (Барт). Различать, однако, науки не по точкам зрения, а только или главным образом по объектам затруднительно: ведь разные науки могут заниматься одним и тем же объектом; последние можно принимать во внимание при систематике наук, но лишь в качестве подчиненного признака для деления их на более мелкие группы. Аналогичное, хотя и более тонкое смешение обнаруживается и в других рассуждениях представителей школы; едва ли строго различая гносеологическую проблему приложения психологии к истории от психологической, некоторые из них говорят, что область наук о духе начинается там, где существенным «фактором» данного явления оказывается человек как желающий и мыслящий субъект. Такие обобщения, однако, предпосылаются нами: чужое «Я», чужие желания и мысли как таковые не даны в нашем чувственном восприятии. Выражения «wollendes und denkendes Subjekt» или «denkendes und handelndes Subjekt» (Вундт) не однородны, ибо «wollendes» — примышляется, а «handelndes» — дано в опыте. Следовательно, в вышеприведенной формуле две разные точки зрения смешиваются: в основе всякого исторического построения лежит, конечно, признание чужого одушевления, и притом переносимого на раньше бывших людей; но наше заключение о реальном существовании психических «факторов», порождающих известные продукты культуры, требует особого обоснования, а именно обоснования признания реальности факторов чужой психики, а также причинно-следственной связи между ними и соответствующими продуктами культуры. Смешение подобного рода легко может привести к различению наук не по познавательным точкам зрения, а по объектам, что, в свою очередь, облегчает возможность признавать в науке вообще одну только обобщающую точку зрения, различая отрасли науки (например, естествознание и историю) лишь по «объектам» изучения.
Приверженцы номотетического построения делают свои обобщения, постоянно пользуясь принципом причинно-следственности. Стремление установить причинно-следственную связь между наблюдаемыми фактами, конечно, вполне научно, но в нем часто смешивают два понятия — понятие о логически необходимой и понятие о фактически необходимой связи между двумя фактами — предшествующим и последующим. Под логически необходимой связью между фактами мы разумеем связь, которая мыслится нами как логически необходимая и всеобщая (принцип причинно-следственности): если дано а (т. е. дано в том смысле, что действие его не встречает в действительности противодействующих ему условий), то за ним должно следовать b. Под фактически необходимой причинно-следственною связью между фактами можно разуметь связь, которая констатируется нами как конкретно данная: дано В, вызванное А, причем А получается благодаря «случайной» встрече или скрещиванию многих обстоятельств — a 1, a 2, a 3,… a n в данное время и в данном месте. Сторонники разбираемого направления признают причинно-следственность лишь в логическом смысле: индивидуальное, по словам одного из них, не способно стать причиною в научном смысле слова. И действительно, мы с полным основанием можем говорить о необходимости и всеобщности причинно-следственной связи между а и b, лишь пользуясь принципом причинно-следственности; только на его основании мы в полной мере можем построить логически необходимое и всеобщее причинно-следственное отношение между а и b. Тем не менее в действительности каждому из нас приходится иметь дело с фактически необходимой связью, которую мы не в состоянии признать логически необходимой и всеобщей: такие случаи бывают, когда мы имеем дело с комбинациями причин, «случайно» столкнувшихся или совпавших; в сущности, лишь исходя из уже вызванного ими сложного продукта, мы в состоянии заключить о той совокупности обстоятельств, которая породила столь сложный результат (продукт): из взятых порознь причин нельзя еще вывести данной комбинации причин и придать ей, таким образом, логически необходимый и всеобщий характер; значит, с точки зрения логики данность такой комбинации — простая «случайность». Вместе с тем исторический «фактор», разложенный на его элементы (если нечто подобное осуществимо), уже не будет реально данным фактором, именно им, а не другим; да и из таких разложенных элементов, порознь взятых, нельзя вывести данного продукта, поскольку он фактически получился в результате «случайной» (с логической точки зрения) встречи множества обстоятельств в данное время и в данном месте. Далее следует заметить, что из числа тех причин, которые в общей совокупности порождают данный продукт, лишь те из них, которые всего дальше отстоят от результата, поддаются научному анализу, например, физические условия, повлиявшие на данную личность или группу людей, а значит (косвенно), и на их поступки или деятельность; но такими отдаленными причинами, отвлекаемыми от действительности, нет возможности удовлетворительно объяснить реально данные продукты; надо взять непосредственно предшествующее им, а таковым придется признать весьма сложную совокупность условий, породивших данный результат. Положение, например, что кислород обусловливает жизнь животных, а значит, и жизнь людей, человеческих обществ и их историческое развитие, мало имеет значения для объяснения собственно исторического процесса: никто не станет называть кислород историческим фактором; причинно-следственное отношение нужно устанавливать между непосредственно предшествующим и следующим так, чтобы предшествующее непосредственно переходило в следующее; но такой непрерывной связи между предшествующим фактом и последующим в области истории установить нельзя, не исходя из заранее данного фактического отношения: ведь между элементом, отвлекаемым от действительности, и продуктом — множество посредствующих звеньев, не располагающихся в линейный ряд. Наконец, из таких соотношений нельзя еще с достоверностью предсказать, каков будет их продукт. Итак, не будучи в состоянии логически построить данную совокупность причин и вывести из нее данный продукт в его целом, нам остается только исходить из конкретно данного результата и пытаться объяснить, каким образом он возник в действительности; но рассуждать в таких случаях о «единичном законе» изучаемого процесса едва ли целесообразно.[138]
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Методология истории"
Книги похожие на "Методология истории" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Александр Лаппо-Данилевский - Методология истории"
Отзывы читателей о книге "Методология истории", комментарии и мнения людей о произведении.