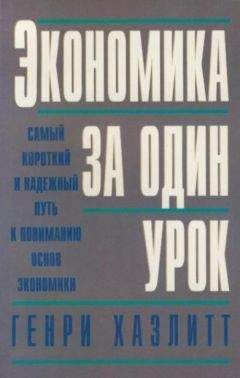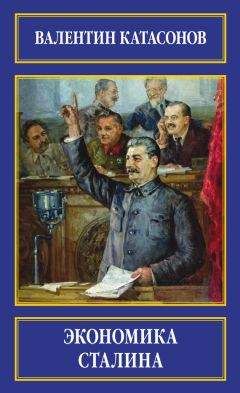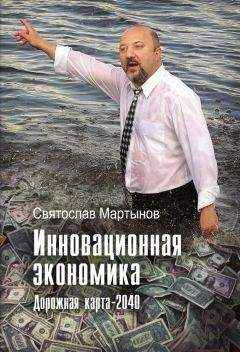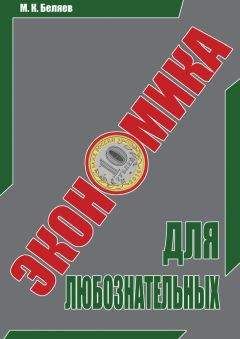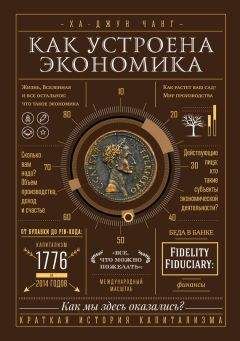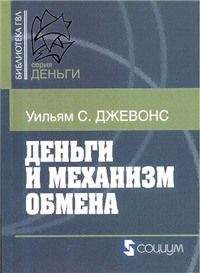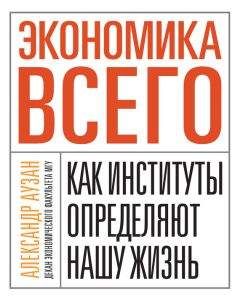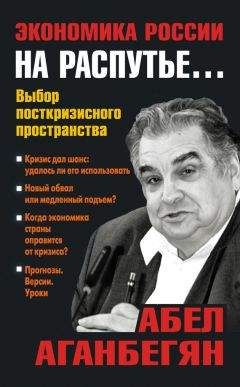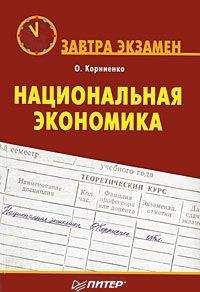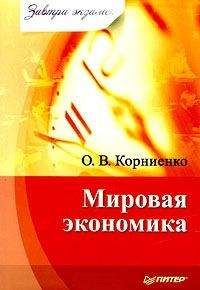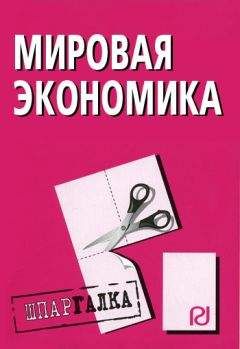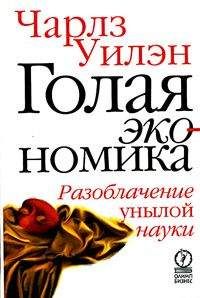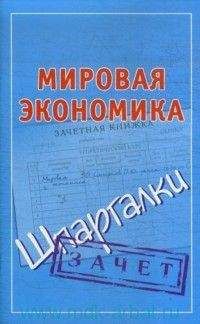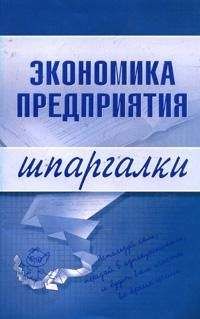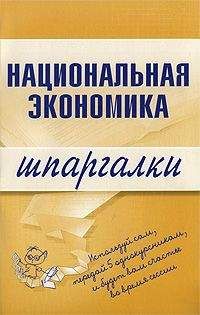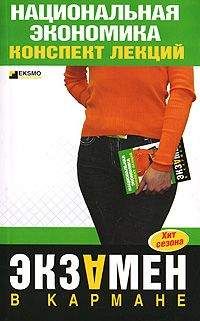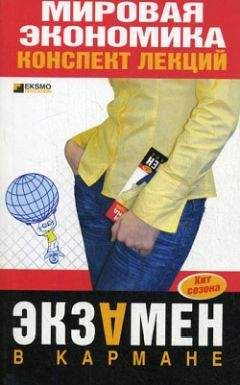Александр Долгин - Экономика символического обмена
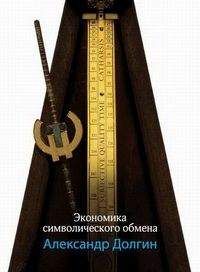
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Экономика символического обмена"
Описание и краткое содержание "Экономика символического обмена" читать бесплатно онлайн.
Для экономистов указание на систематическое расхождение между ценами и ценностями может звучать либо как общее место – банальное настолько, что его не принято озвучивать в приличном обществе, либо как безответственное намерение расшатать традицию. Цена, скажут они, это по определению результат соотношения спроса и предложения и ничего более. Никакой привязки к ценности в ней и не подразумевается, и с этой стороны ни к ней, ни тем более к экономической теории не подкопаешься. Однако тут-то собака и зарыта. Экономические постулаты в отношении цены и ценности могут хранить величавую неприступность, но реальным рынкам от этого, как говорится, ни холодно ни жарко. Есть теоретическое представление о цене, а есть цена как необходимый практический инструмент для рыночных агентов. Если почему-либо и где-либо связь между ними теряется, экономическая теория перестает работать и уподобляется игре в бисер. И если экономисты хотят реализовать хоть какие-то амбиции на поле культуры, где происходит элиминация (удаление) ключевого для цены фактора редкости, то, видимо, надо что-то менять в подходе. Как, в самом деле, опереться на редкость там, где с канонических позиций ее не выявить? Это все равно что строить теорию воздухоплавания вокруг пропеллера, работающего в вакууме. Мир вертится вокруг денег именно потому, что соотношение спроса и предложения отражается в цене, и та как индикатор указывает на ценность. Последняя в свою очередь определяется комбинацией желаний и трудности их удовлетворения (редкости). Участники рынка корректируют и координируют свои потребности по ценам. Отними у денег функцию информирования покупателей о ценности покупок, и денежный институт резко потеряет в весе. (В тех областях культуры, где цены унифицированы, это и наблюдается.) Вопрос о работоспособности денег в культуре можно сколько угодно объявлять не стоящим выеденного яйца, но за этим угадывается тактический ход, цель которого защитить учение от опасной ереси. Завладей она умами, и раскол теории неизбежен, а в этом случае конец претензиям на универсализм и статус мировых гуру. В своей основе экономическая теория – это теория рационального выбора[626]. Сомнения в том, что цена произведения служит ориентиром для выбора[627], ставят крест на универсальности подхода. Культура тогда окажется вне зоны экономического анализа, а вместе с нею и многое, что на нее завязано.
Заботясь о добром имени теории, наиболее авторитетные экономисты, в том числе нобелевские лауреаты Дж. Стиглер и Г. Беккер, считают делом чести обосновать ее работоспособность (в устоявшейся аксиоматике) везде и всюду, включая сферу культуры. Стиглер и Беккер предложили Z-теорию, которая гласит, что изменение спроса на товар можно объяснить увеличением его способности порождать искомое состояние – Z[628]. Подобное допущение введено, чтобы спасти базовый постулат экономики об однородности человеческих предпочтений, при том что художественные вкусы со всей очевидностью разнообразны. (Люди стремятся к одним и тем же состояниям, а то, что достигают их по-разному и с помощью разных вещей – это другой вопрос.) В этой логике тяга к классической музыке объясняется тем, что по мере слушания происходит наращивание человеческого капитала (вкуса), и желаемое состояние достигается все легче. Таким образом, потребление рассматривается как инвестиция в способность наслаждаться[629]. «Но как объяснить изменение спроса на Z?» – этим вопросом задается Т. Коуэн, не увидевший в Z-теории ничего нового[630].
Сколь скептично ни относиться к Z-теории и прочим близким к ней по духу умопостроениям, нельзя не признать: в некоторых областях, где экономике, казалось бы, не место, экономическая логика, тем не менее, весьма плодотворна. В соответствии с базовой экономической доктриной, все элементы ценности объекта (культурная ценность не исключение) могут учитываться в рамках теории полезности. При этом человек сам конструирует свою внутреннюю шкалу и по собственному усмотрению руководствуется теми или иными культурными критериями. Если он сочтет, что эстетическая, духовная и т.д. ценность некоего объекта выше, чем другого, то при прочих равных условиях заплатит за него больше. Разницу в готовности платить (или потреблять в больших количествах) можно интерпретировать как меру различия культурной ценности. Тут налицо неувязка: нельзя предпочесть сыр, не отведав его. К тому же, в цифровом сегменте индивид, может быть, и готов больше заплатить за лучшее, но по условиям рынка от него этого не требуется – корреляция между ценой и системой ценностей отсутствует. И еще субъект представляется автономным в своих предпочтениях, будто его вкус не предопределен условиями формирования.
Вынося за скобки вопрос о природе предпочтений, экономисты не пытаются разобраться в том, как те складываются. В итоге упускается существеннейшее различие в утилитарных и культурных потребностях. Первые воспроизводятся автоматически, вторые – нет. Для объяснения, например, рынков питания нет нужды вдаваться в биохимию продовольствия. Потребитель просто не в силах отказаться от пищи. Но спрос на культурную продукцию не возникает автоматически, и он неоднороден. Даже физиологические потребности широко варьируются в зависимости от жизненного уклада. А уж про «необязательные» культурные запросы и говорить нечего – они теснейшим образом связаны с культурно-социальными нормами, с привычками и рутиной.
Несмотря на схематизацию и упрощение, экономический подход оказывается продуктивным в целом ряде случаев, на первый взгляд весьма далеких от экономики. В частности, экономические рычаги оказываются действенны в криминальной среде. Другой пример: отношения полов тоже можно представить как рынок брачных контрактов. Эта ветвь экономики, простирающаяся на самые разные, считающиеся исконно гуманитарными территории, известна под названием «экономический империализм». Ее основатель, Гэри Беккер, анализировал в экономическом ключе все и вся, включая интимные отношения[631]. Так, Беккер отметил, что супруг, читающий перед сном и мешающий спать жене, делает это не просто по скверности нрава, а сопоставляет полезность книги с издержками недосыпания своей половины. Легче легкого высмеять подобный ход мысли, и Беккера в изобилии осыпали насмешками. Но супруг, похоже, в самом деле так думает, и беккеровская модель учитывает это.
Экономические соображения (неважно, счетные или интуитивные) доминируют в самых разных ситуациях, там, где они, казалось бы, неуместны. Они могут присутствовать неявно, но их вес все равно будет решающим. Как ни трудно исчислить такие вещи, как настроение, интеллект, мотивацию, но это не мешает рассматривать их в ресурсном ключе. А уж в таких сферах, как криминальная деятельность или планирование семьи, где на кону стоят деньги, многое калькулируется – осознанно или нет.
Не только профессиональные экономисты возносят экономический принцип превыше всего. Начиная еще с Нового времени рыночные, а следом и нерыночные участники все больше руководствуются им за пределами рынка, перенося на частную жизнь, культурную активность[632]. Сила и одновременно опасность этого принципа в том, что главным измерителем процессов становятся деньги. Естественно, такая система оценки не вполне релевантна, но это забота игроков – подстраиваться под специфику денег. Вот почему экономический взгляд прогностичен – деньги не столько измеряют, сколько подчиняют себе культуру. Социокультурные процессы незаметно приспособились к денежной измерительной системе. Как мы видели, существует рыночная причина однообразия цен на кинофильмы. Производители кино подстраивают под эту данность свои технологии. Экономисты оказываются правы: цена подогнанных под рынок кинофильмов хорошо отражает их ценность. Хотя вернее было бы сказать не «отражает», а «подминает под себя».
В таком случае, соответствует ли цена ожиданиям потребителей? Начиная с некоторого момента, безусловно. Между производителями и потребителями достигается консенсус в отношении цены и соответствующего качества. Цены уравнены, и ценности автоматически подравнялись. Видимое соответствие одного другому никак не заслуга денежного рыночного механизма, а результат недовложения ценностей, произошедшего по его вине. (Культурные прейскуранты напоминают лотки столетней давности, где любая вещь обменивалась на монету в пять или десять центов. Само собой разумеется, там мог очутиться далеко не любой товар.) В итоге сложившееся положение кажется естественным и лишенным противоречий[633]. Но это лишь видимость. Социальная реакция подогнана под правила.
Ортодоксальный экономический взгляд на культуру – это не просто безобидное теоретизирование, а опасный самосбывающийся прогноз. Социум восприимчив к подобной аргументации. Будь человек тысячу раз не таким, как его рисуют экономисты, но, напитавшись искаженными сведениями о себе, он уподобляется карикатуре на самого себя. Если человеку, имеющему тысячекратно отличные представления о полезности, со всех сторон вдалбливают, как следует понимать свои интересы, – его взгляды в конце концов станут нормативными (такими, как их навязал рынок). Непокорные и неприсоединившиеся, если не найдут способа объединиться с себе подобными, неуклонно маргинализируются.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Экономика символического обмена"
Книги похожие на "Экономика символического обмена" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Александр Долгин - Экономика символического обмена"
Отзывы читателей о книге "Экономика символического обмена", комментарии и мнения людей о произведении.