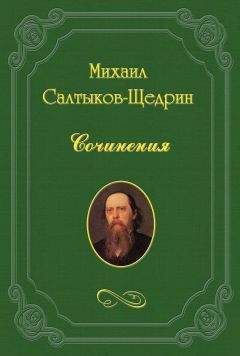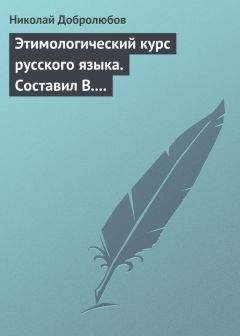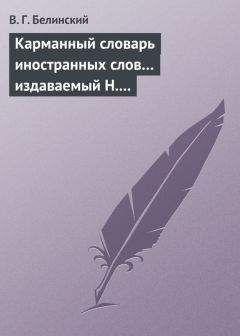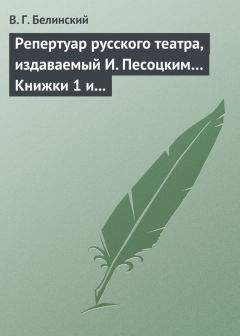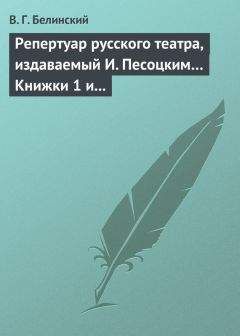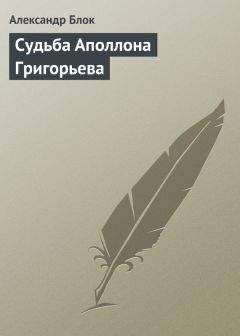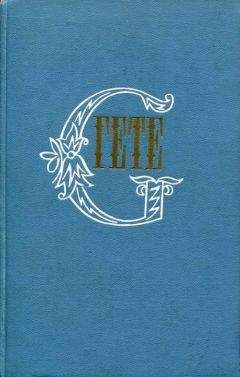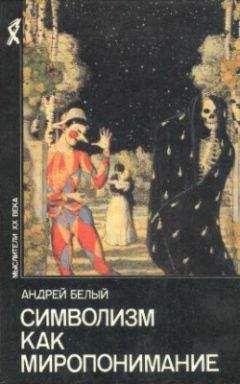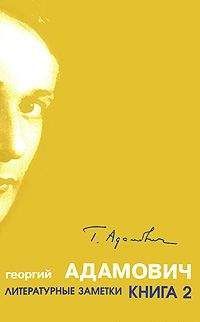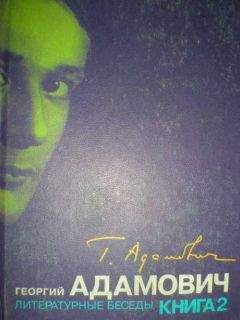Михаил Вайскопф - Влюбленный демиург. Метафизика и эротика русского романтизма

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Влюбленный демиург. Метафизика и эротика русского романтизма"
Описание и краткое содержание "Влюбленный демиург. Метафизика и эротика русского романтизма" читать бесплатно онлайн.
Новая книга известного израильского филолога Михаила Вайскопфа посвящена религиозно-метафизическим исканиям русского романтизма, которые нашли выражение в его любовной лирике и трактовке эротических тем. Эта проблематика связывается в исследовании не только с различными западными влияниями, но и с российской духовной традицией, коренящейся в восточном христианстве. Русский романтизм во всем его объеме рассматривается здесь как единый корпус сочинений, связанных единством центрального сюжета. В монографии используется колоссальный материал, большая часть которого в научный обиход введена впервые. Книга М. Вайскопфа радикально меняет сложившиеся представления о природе русского романтизма и его роли в истории нашей культуры.
Но задолго до того, как приступить к изучению собственно эротической стороны романтизма, нам потребуется выяснить, в чем именно состояли сами эти полномочия, узурпированные его представителями.
2. Ученый демиург и его противники
Мы уже видели, что идея об отражении бытия взаимодействовала здесь с идеей его пересоздания (подсказанной, конечно, западным романтизмом). Теоретически говоря, в последнем случае для романтического демиурга открывались две возможности: отрефлектированное творение можно было переустроить – а можно было использовать в качестве вспомогательного материала для лепки собственной, альтернативной действительности, в которой изрекала себя душа автора, упивающаяся своим иллюзорным могуществом. Обе эти версии сопоставил между собой Шевырев в упомянутой ранее рецензии на книгу В. Скотта. Вторая из них представлена «гигантом Жан-Полем, создавшим собственный мир в своих романах». Но мир этот чересчур идеален: он собран из крайностей и населен либо ангелами, либо демонами. Куда убедительнее Вальтер Скотт – тот самый, что отобразил историю Англии, которая достигла в нем самопознания. Мало того, что он «усвоил себе мир видимый», – романист «как бы пересоздал его в своих произведениях. Он так же разнообразен, так же неисчерпаем, как судьба в создании людей и характеров; но он иногда хитрее судьбы бывает в сплетении происшествий, в завязке и развязке действия»[234].
Понятно, однако, что строго разграничить две эти модели – демиургическую и преобразовательную – на практике было нелегко. В обеих преобладала общеромантическая гегемония субъективного начала, подчиняющего себе «мир видимый» и тем самым сливающегося с ним как собственным владением (установка, в России санкционированная в придачу шеллингианскими увлечениями). Скотта отличала скрупулезная верность наличному историческому материалу – но вместе с тем он чрезвычайно активизировал роль субъективного фактора в его творческой реконструкции. Естественно, что, начиная с «Айвенго», шотландский писатель стал чуть ли не сакральной фигурой для романтической историографии, представленной во Франции Огюстеном Тьерри, которого Стендаль даже называл «полу-Скоттом»[235]. Да и в России Погодин признал за поэтическим воображением право на адекватное воссоздание минувшего бытия. «Историческая критика, – писал он, – должна допустить доказательства a priori, откровения поэтов, о коих не смели думать и смелые Шлецеры: неужели, например, время, протекшее до появления памятников, должно погибнуть для Истории?»[236]
Глашатаи естествознания и философии, еще только нарождавшихся в России, также отстаивали право на продуцирование внешней реальности в воображении мыслящего субъекта. Демиургические покушения вырастают из эроса познания, который эти писатели славословят порой языком свадебных песнопений. К нему прибегнул Максимович в статье «О границах и переходах царств природы», воскликнув: «Каких средств не придумает ум для узнания своей суженой, Природы?» Любопытно, что еще раньше, восторженно рецензируя на своей первой странице его «Размышления о природе», надеждинская «Молва» использует именно сексуальную лексику, противопоставляя изыскания автора, согретые «всем жаром искренней любви», бесплодной и отвратительной некрофилии обычных, холодных ученых. В обоих случаях, однако, речь идет о раздевании. По убеждению Надеждина, «Размышления» «благоговейно приподнимают таинственный покров Изиды и обнажают не мертвый труп, приводящий в отчаяние холодных щупателей природы, если можно так назвать разыскателей, водящихся [sic] одними вычетами и учетами, а светлую, гармоническую игру жизни»[237].
Трудно, конечно, найти более банальную тему, чем запрет на совлечение покровов, которая и сегодня в любых комментариях сопровождается дежурными ссылками на Плутарха, Шиллера и Новалиса – словом, на прецедент с Изидой. Однако этой избитой метафоре Максимович сумел придать новую тональность. Снятие покрова, т. е. «узнание суженой», для него равнозначно ее пробуждению либо оживлению под пассами университетского Пигмалиона. Со своей обычной торжественностью автор статьи «О границах…» говорит, что ученый воскрешает, пусть только умозрительно, угасшую некогда природу. Изучая следы древнейших растений и животных, отложившиеся в толще каменного угля, «человек углубляется в них своею думою, собирает останки умершей жизни, вспрыскивает их живою водой разумения» – и тогда его вдохновенный труд подытоживается творческим воссозданием былого, которое у автора отсвечивает видением Иезекииля: «Эти обломки, эти раскиданные по земле кости срастаются в целые, исполинские тела – они сходятся, слетаются целыми семьями на злачные долы, в лилейные и пальмовые леса, восстающие из копей угольных, из твердынь каменных, и воздвигается целый мир стройный, колоссальный, для новой, мысленной жизни в уме человека!»[238]
Понятно, что в качестве профессионального натуралиста Максимович питает уважение к опытным знаниям, потребным для такого теоретического воскрешения истлевших форм органического бытия. Его приятели из круга «архивных юношей» к эмпирике относились куда пренебрежительнее. Постигнутый шеллингианский гнозис счастливо освобождал их от докучных трудов, оставляя зато досуг для демиургических прорицаний. Спустя много лет, в Предисловии к «Русским ночам», князь В. Одоевский снисходительно вспоминал и о тогдашней вражде этих снобов к «грубому эмпиризму», и об их грандиозных амбициях, не оставляющих сегодня никаких сомнений в креационистском характере любомудрия. «Мы верили, – говорит он, – в возможность такой абсолютной теории, посредством которой возможно было бы строить (мы говорили – конструировать) все явления природы, точно так, как теперь верят возможности такой социальной формы, которая бы вполне удовлетворяла всем потребностям человека»[239]. Как видим, речь у Одоевского идет все же о построении или «конструировании» самой природы, а не систем, объясняющих ее явления.
Вскоре ему пришлось разочароваться в этих надеждах и даже вплотную заняться практическим изучением «грубой материи»[240]; но даже в зрелые годы он сохранил остатки демиургических порывов, спроецировав их как на свои архитектурные или социальные утопии, так и на алхимическое создание «духа стихий» в реторте (повесть «Сильфида», 1837 г.). В юношеском же возрасте он вел себя крайне вызывающе. Так, в 1824 г. двадцатилетний Одоевский опубликовал в своей «Мнемозине» (издававшейся им совместно с Кюхельбекером) «Афоризмы из различных писателей по части современного германского любомудрия». Помпезно и хаотически пересказав здесь некоторые положения философии тождества, он ставит затем акцент все на той же идее самоотражения абсолюта в отвлеченном разуме человека. Пора обратиться к первоначальному единому знанию, долженствующему вобрать в себя все частные науки. Наступает новая эра, чреватая новым творением, – причем в ее описании компилятивные пророчества автора отдают иногда Новалисом: «Такое познание, – возвещает Одоевский, – никогда, может быть, не было нужно, как в настоящее время, когда и в науках и в искусствах все, кажется, быстрее стремится к единству, когда <…> всякое потрясение <…> образует новый орган созерцания, более общий и почти для всех предметов. Такие времена пройдут ли, не породив нового света?»
Его провозвестниками и создателями суждено стать молодым мыслителям, под которыми Одоевский, безусловно, подразумевает самого себя и своих друзей: «Особенно лишь свежим, неиспорченным силам юного мира поручено быть может охранение и образование столь высокого дела». Кстати, уже первый выпуск журнала он открыл своим памфлетом «Старики, или остров Панхаи», направленном как против геронтократии, так и против эмпиризма, – словом, в его лице «архивные юноши» весьма напористо претендовали на духовную гегемонию.
«Афоризмы» в данном смысле носят едва ли не директивный характер. Наукоучение Фихте преломляется у Одоевского в надменный и мечтательный иллюзионизм или, скорее, некий групповой солипсизм, манифестирующий демиургические претензии философствующих дилетантов. Не абстрактное Я, а сам философ из своей мыслящей личности развертывает целостную картину наук, отражающих органическое всеединство сущего: «На кого положиться в сем отношении? Более всего, на самих себя и на доброго Гения <…> Таковое созерцание как в Общем может произойти только от науки наук – от любомудрия, так и в частном принадлежит одному любомудру, коего Особенная, Частная наука есть безусловно всеобщая и коего все стремления обращены на всеобщность знаний».
Автор, владеющий полнотой истины, ничуть не скрывает презрения к «мирским» (т. е. утилитарным) нуждам науки и крохоборскому собиранию каких-то суетных сведений, не предваренному заведомо обобщающей их «мыслью» – мыслью грандиозной и возвышенной. Это презрение поэта-жреца к толпе или же самого любомудрия – к черни фактов. Своего предполагаемого оппонента Одоевский третирует с апломбом невежды и непреклонностью пророка: «С сей точки зрения должно созерцать всякую отдельную науку – дабы оную обнимать с тем высоким вдохновением, которое называют Гением учености. Всякая мысль не в духе сего высочайшего единства сама по себе пуста и должна быть отвергнута»[241]. Паразитам эмпирики вынесен суровый вердикт: «То, что гармонически не может принадлежать к сему деятельному, живому Центру, то есть только мертвый нарост, который по законам организма рано или поздно истребится; в самом деле, в царстве Наук довольно трутней, которые, не имея способностей творить, лишь производят всяческие наросты и стараются более и более распространить отпечатки своего бездушия»[242].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Влюбленный демиург. Метафизика и эротика русского романтизма"
Книги похожие на "Влюбленный демиург. Метафизика и эротика русского романтизма" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Михаил Вайскопф - Влюбленный демиург. Метафизика и эротика русского романтизма"
Отзывы читателей о книге "Влюбленный демиург. Метафизика и эротика русского романтизма", комментарии и мнения людей о произведении.