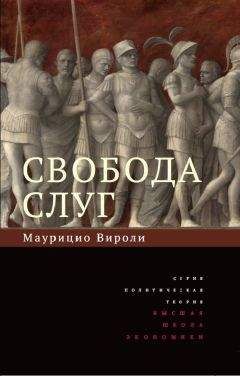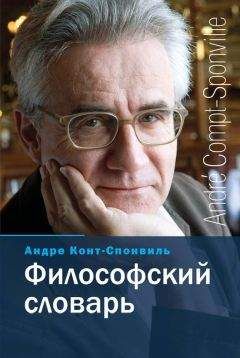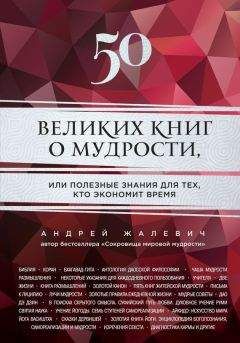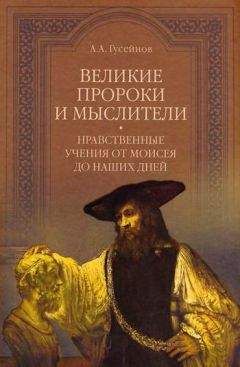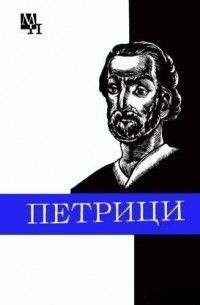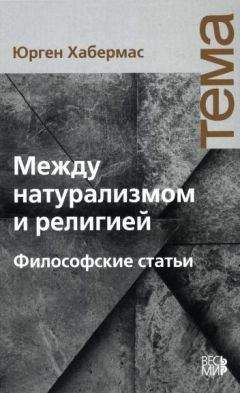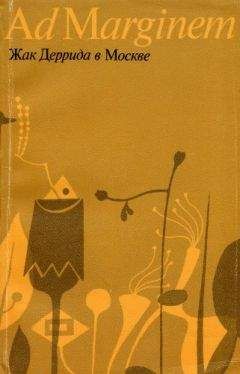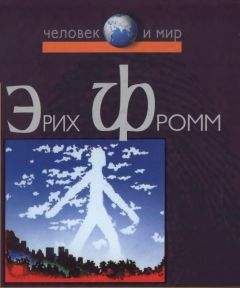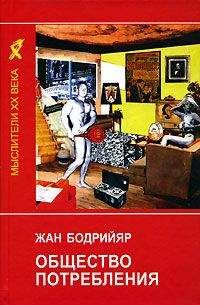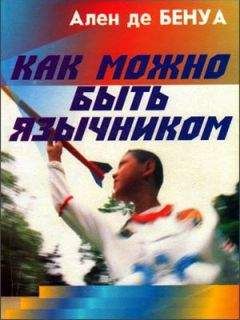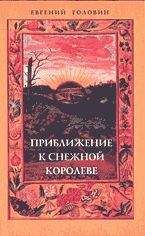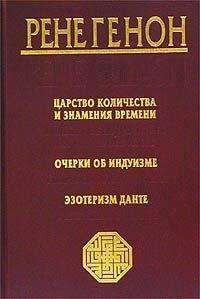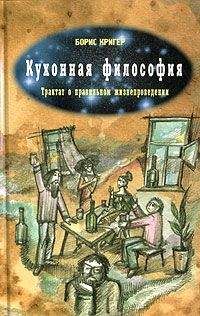Андре Конт-Спонвиль - Малый трактат о великих добродетелях, или Как пользоваться философией в повседневной жизни
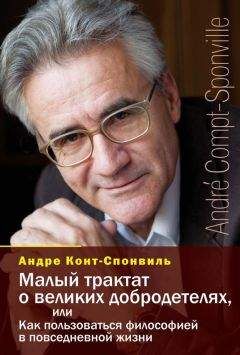
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Малый трактат о великих добродетелях, или Как пользоваться философией в повседневной жизни"
Описание и краткое содержание "Малый трактат о великих добродетелях, или Как пользоваться философией в повседневной жизни" читать бесплатно онлайн.
Книга известнейшего современного французского философа о моральных абсолютах и основных добродетелях. Интеллектуальный бестселлер, пользующийся огромным успехом во многих странах мира.
Для широкого круга читателей..
«Неумеренность – чума сладострастия, – говорит Монтень, – а умеренность – не бич ее, а приправа к ней». Приправа, позволяющая наслаждаться удовольствием в самой сладостной изысканности. Так поступает истинный гурман – в отличие от обжоры, он предпочитает качество количеству. Это уже шаг вперед. Но мудрец идет еще дальше. Мудрец метит выше: качество получаемого удовольствия значит для него неизмеримо больше, чем качество вызывающих удовольствие блюд. Он тоже гурман, но как бы гурман в квадрате, гурман по отношению к себе, вернее, по отношению к жизни и к безличным и безадресным удовольствиям, которые она способна дарить: есть, пить, чувствовать, любить. Он вовсе не эстет – он знаток. Он знает, что нет удовольствия помимо вкуса, а вкуса – помимо желания. «Простые блюда, – говорит он, – доставляют удовольствие не меньшее, чем самые изысканные яства, если помогают излечиться от боли, вызываемой нуждой; просяной хлеб и вода доставляют острейшее удовольствие, когда подносишь их ко рту в крайней нужде. Вот почему привычка к простой пище способствует улучшению здоровья, делает человека способным к необходимым жизненным занятиям, приводит нас в нужное расположение духа, когда время от времени мы приближаемся к роскошным яствам, и делает нас бесстрашными перед богатством».
В развитом обществе – таком, каким было общество Эпикура и каким является наше, нетрудно добыть необходимое; а получить и сохранить то, что не относится к необходимому, гораздо труднее. Но кто из нас способен довольствоваться необходимым? Кто может не полюбить излишества, если они сами идут в руки? Только мудрец, быть может. Умеренность делает его удовольствие более острым, если он его испытывает, и заменяет ему удовольствие в отсутствие последнего. Следовательно, он всегда – или почти всегда – пребывает в состоянии удовлетворения. Действительно, какое редкостное удовольствие – жить! Какое удовольствие иметь все необходимое! Какое удовольствие быть хозяином своих удовольствий! Мудрец эпикуреец культивирует интенсивный, а не экстенсивный способ удовлетворения желаний. Лучшего не обязательно должно быть много; лучшее – это то, что привлекает его и доставляет ему счастье. Он живет, по выражению Лукреция, «сердцем довольствуясь малым», и он уверен в своем благополучии, потому что знает, что «малый голод легко утолить», а даже если голод останется неутоленным, он быстро исцелит его и от голода, и от всего остального. Тот, кому довольно жизни самой по себе, не станет страдать от отсутствия чего бы то ни было. Этот секрет счастливой бедности вновь открыл, возможно, только св. Франциск Ассизский. Но этот урок гораздо нужнее нам, нашему обществу изобилия, в котором чаще всего страдают и умирают не от голода и не от аскезы, а от неумеренности. Умеренность – добродетель на все времена, но во времена благополучные ее значение особенно возрастает. Это добродетель, носящая не исключительный, в отличие от храбрости (особенно необходимой в тяжелые времена), а обыденный и скромный характер: не исключение, а правило, не героизм, а мера. Это добродетель, являющая собой противоположность полной разнузданности всех чувств, столь дорогой Рембо (10). Вот почему наша эпоха, предпочитающая поэтов философам и детей мудрецам, стремится забыть о том, что умеренность – это добродетель, низводя ее до состояния гигиенического средства («я веду себя осторожно»). Несчастная эпоха, способная поставить выше поэтов только врачей!
Фома Аквинский тонко подметил, что эта основная добродетель, может быть и не дотягивающая до остальных (благоразумие явно нужнее, а храбрость и справедливость заслуживают большего восхищения), зато самая труднодостижимая. Дело в том, что умеренность касается самых насущных желаний любого индивидуума (есть и пить) и всего вида в целом (заниматься любовью), которые к тому же являются самыми сильными желаниями. И они же труднее всего поддаются самоконтролю. Об отказе от этих желаний не может идти и речи – ведь бесчувственность тоже порок! Речь о том, чтобы хоть в какой-то мере постараться их контролировать, ввести в какие-то рамки, поддерживать в некоем равновесии и гармонии. Умеренность – это добровольное стремление упорядочить свои собственные побуждения, использовать душевную силу для обуздания своих безрассудных аппетитов. Умеренность – не чувство, это способность, а следовательно, добродетель. Ален называл умеренность добродетелью, преодолевающей все виды опьянений. Включая, добавим, опьянение умеренностью, – и здесь она смыкается со скромностью.
Храбрость
Храбрость – та из добродетелей, которая, судя по всему, вызывает в нас наибольшее восхищение. Престиж, которым окружена храбрость, не зависит – и это довольно редкое явление – ни от общественного устройства, ни от эпохи, ни даже от личности человека. Трусость презираема повсеместно; отвага пользуется всеобщим уважением. Разумеется, ее формы и содержание могут варьироваться: у каждой цивилизации свои страхи и свои храбрецы. Но вот что остается неизменным – или почти неизменным: храбрость как способность преодолевать страх ценится выше, чем трусость или малодушие, уступающие страху. Храбрость это добродетель героев, а кто ж из нас не восхищается героями?
Между тем эта универсальность ничего не доказывает и даже выглядит несколько подозрительной. Если нечто вызывает всеобщее восхищение, значит, этим восхищаются, наряду со всеми, и мерзавцы, и дураки. Но можно ли положиться на их суждение? К тому же не следует забывать, что многие люди восхищаются, например, красотой, которая не является добродетелью, и, наоборот, презирают мягкость, которая как раз и есть одна из добродетелей. Широкое распространение морали не служит доказательством ее универсального характера. Добродетель – не шоу и не нуждается в аплодисментах публики.
Но главное даже не в этом. Храбрость ведь может служить как добру, так и злу. Она не способна менять природу того и другого. Злобный человек может вести себя храбро, но от этого он не перестает быть злобным. Храбрый фанатик остается фанатиком. Можно ли сказать, что подобная храбрость – храбрость во зле и во имя зла – все еще добродетельна? С этим трудно согласиться. Допустим, храброе поведение убийцы или эсэсовца способно вызвать чье-то восхищение – но разве это делает их добродетельными? Будь они чуточку трусливей, глядишь, причинили бы меньше зла. Так что же это за добродетель, если она может служить дурным целям? И что это за ценность, если она равнодушна к ценностям?
«Храбрость – не добродетель, – говорит Вольтер, – но качество, в равной мере присущее и негодяям, и великим людям». Следовательно, храбрость – это одно из совершенств, но само по себе оно не может быть ни нравственным, ни безнравственным. То же самое можно сказать об уме или о силе: и то и другое способно вызывать восхищение, и то и другое двойственно (может служить как добру, так и злу), ни то ни другое не имеет отношения к морали. Впрочем, я не вполне уверен, что с храбростью все обстоит так просто. Возьмем для примера какого-нибудь негодяя. Он может быть умен или глуп, силен или слаб – с точки зрения морали его оценка не меняется. Мало того, глупость может в какой-то степени служить ему оправданием, равно как тот или иной физический недостаток, из-за которого у него испортился характер. Люди называют это смягчающими обстоятельствами: не будь он идиотом или хромым, может, он не был бы таким мерзавцем? Но вот ум и сила не только не смягчают подлой натуры негодяя, но, напротив, подчеркивают ее, усиливают его зловредность и усугубляют вину. Другое дело – храбрость. Трусость иногда может служить оправданием дурного поступка, тогда как храбрость как таковая всегда оценивается с точки зрения морали (что не доказывает, как мы покажем в дальнейшем, что она всегда является добродетелью). Как мне кажется, это прекрасно сознают и сами негодяи. Допустим, есть два эсэсовца, одинаковые во всем, кроме одного: один труслив, а второй храбр. Второй наверняка опаснее, но кто может сказать, что он виновен больше первого? Что он больше заслуживает презрения и ненависти? Если я говорю о ком-то: «Он жесток и труслив», то оба эти качества как бы суммируются. Если же я говорю: «Он жесток и храбр», то тут скорее применимо не сложение, а вычитание. Какие чувства вызывает в нас камикадзе? Разве только ненависть и презрение?
Впрочем, оставим военную тему, ибо она способна увести нас очень далеко. Поговорим лучше о паре террористов, действующих в мирное время. Каждый из них взрывает самолет, битком набитый отпускниками, только один осуществляет диверсию с земли, лично ничем не рискуя, а второй сам находится в том же самолете и гибнет вместе с пассажирами. Кто из них вызовет в нас более сильную ненависть и презрение? Разумеется, первый. Остановимся подробнее на этом примере. Можно предположить, что оба наши террориста движимы одними и теми же мотивами, например идеологическими, и оба совершенных ими теракта приводят к одинаковым человеческим жертвам. Каждый согласится, что эти последствия слишком трагичны, а мотивы слишком спорны, чтобы служить им оправданием, иначе говоря, оба теракта достойны морального осуждения. Но один из террористов – трус, потому что он знает, что лично ничем не рискует, а второй – храбрец, потому что он точно знает, что погибнет. Что это меняет? Для жертв – ничего. А для террористов? Храбрость против трусости? Наверное. Но что здесь важно – мораль или психология? Добродетель или характер? Разумеется, и психология, и характер играют свою роль, отрицать это нельзя. Но мне представляется, что здесь присутствует также некий элемент, имеющий прямое отношение к морали: герой-террорист своей жертвенностью демонстрирует по меньшей мере искренность убеждений и вероятное бескорыстие мотивов. Но (и это важно) даже то подобие уважения, разумеется весьма условного, которое мы можем к нему испытывать, заметно уменьшится, а то и вовсе исчезнет, стоит нам узнать – например, из его личного дневника, – что этот религиозный фанатик пошел на преступление, пребывая в твердом убеждении, что в результате выиграет гораздо больше, чем проиграет. Скажем, вечное блаженство в загробной жизни… В данном гипотетическом случае эгоизм снова берет верх (впрочем, он никогда не уступал первенства иным чувствам), а какая бы то ни было нравственность отступает далеко в тень. Мы имеем дело с человеком, готовым принести в жертву невинных людей ради собственного счастья, иначе говоря – с обыкновенным негодяем. В этой жизни он бесспорно храбр, но движим корыстью – пусть даже посмертной, следовательно, его храбрость лишена всякой нравственной ценности. Эгоистическая храбрость – прежде всего эгоизм. Теперь для сравнения представим себе террориста, придерживающегося атеистических взглядов. Если он жертвует собственной жизнью, можем ли мы заподозрить его в низменных побуждениях? Бескорыстная храбрость – это героизм. И хотя такая храбрость не служит доказательством нравственной ценности поступка, она способна многое сказать о личности человека, этот поступок совершившего.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Малый трактат о великих добродетелях, или Как пользоваться философией в повседневной жизни"
Книги похожие на "Малый трактат о великих добродетелях, или Как пользоваться философией в повседневной жизни" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Андре Конт-Спонвиль - Малый трактат о великих добродетелях, или Как пользоваться философией в повседневной жизни"
Отзывы читателей о книге "Малый трактат о великих добродетелях, или Как пользоваться философией в повседневной жизни", комментарии и мнения людей о произведении.