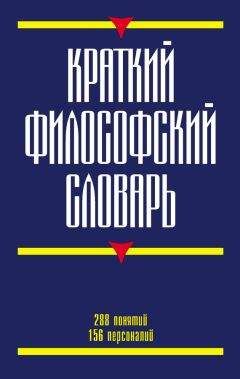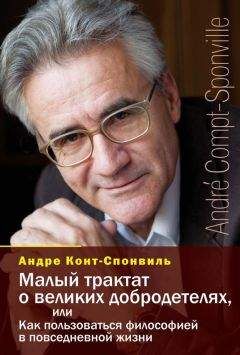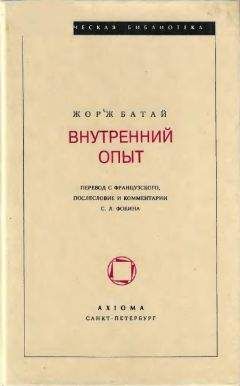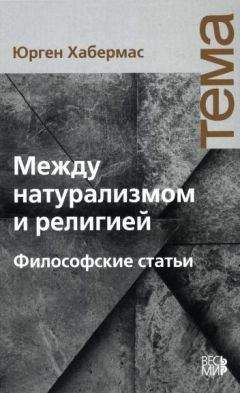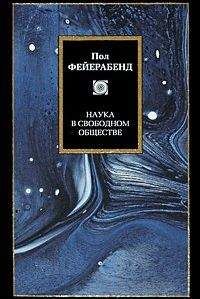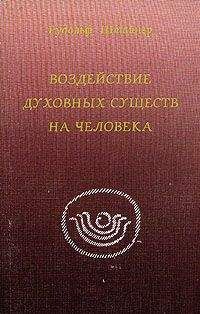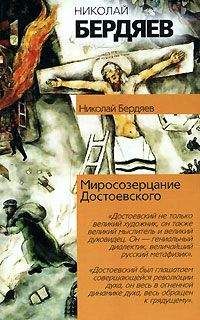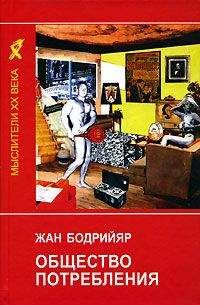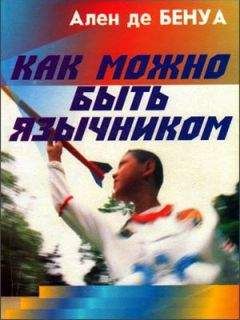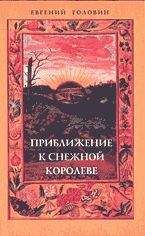Андре Конт-Спонвиль - Философский словарь
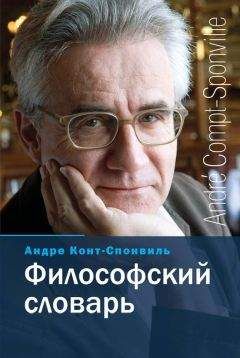
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Философский словарь"
Описание и краткое содержание "Философский словарь" читать бесплатно онлайн.
Философский словарь известнейшего современного французского философа. Увлекательная книга о человеке, обществе и человеке в обществе. Литературное дарование автора, ясный слог, богатый остроумный язык превращают это чтение в подлинное удовольствие.
Для широкого круга читателей.
Добродетель (Vertu)
Усилие, которое мы прикладываем, чтобы хорошо себя вести, и то благо, которое приносит это усилие. Добродетель – не исполнение какого-то заранее заданного правила, тем более не уважение трансцендентного запрета. Добродетель – это одновременно нормируемая и нормативная самореализация индивидуума, который сам себе задает правила и сам себе устанавливает запреты, исходя из своих понятий о том, что достойно и что недостойно того, кем он является, и того, каким он хочет быть.
Греческое слово arкte, которое римляне переводили словом virtus (добродетель, доблесть), поначалу означало способность или совершенство. Так, «добродетель» ножа – резать, «добродетель» лекарства – исцелять, добродетель человеческого существа – жить и действовать достойно человека. Мы понимаем, что здесь речь идет о нравственной добродетели. Это способность, но нормативная способность. Совершенство, но в действии. Это приобретенное свойство (добродетельным нельзя родиться, им можно стать) выступает как склонность творить добро или, как говорил Аристотель, делать то, что ты должен делать, тогда, когда ты должен это делать, и так, как ты должен это делать. Но в качестве руководства к добродетельным поступкам и почти всегда в качестве правил поведения добродетельных людей выступает только сама добродетель. Добродетельное поведение подразумевает участие не только разума, но и воли. Добродетель требует усилий, но она же приносит удовольствие и радость. Тот, кто делится с другими, не испытывая при этом радости, не может называться щедрым. Это пересиливающий себя скупец. Тот, кто удерживается от разврата не потому, что ему противен разврат, а потому, что так надо, не может называться целомудренным. Это неудовлетворенный сластолюбец.
Известно, что Аристотель определял добродетель как золотую середину между двумя противоположными, но равно порочными крайностями («равно» здесь не означает «в равной мере»). Одна крайность «происходит от излишества, вторая – от недостатка» («Никомахова этика», книга II, 5–6, 1106b – 1107a). Так, храбрость располагается посередине между безрассудством и трусостью: безрассудный смельчак слишком рискует (допускает излишество), а трус совсем не рискует (демонстрирует недостаток). Храбрый же человек рискует в той мере, в какой это необходимо, тогда, когда это необходимо, и таким образом, каким это необходимо. Разумеется, ошибкой было бы видеть в этой модели апологию серости, посредственности и безликости. Золотая середина – это тоже крайность, но направленная вверх; это вершина, совершенство (там же), своего рода горная гряда между двух пропастей или двух болот.
«Под добродетелью и способностью, – пишет Спиноза, – я разумею одно и то же; то есть добродетель, поскольку она относится к человеку, есть самая сущность или природа его, поскольку она имеет способность производить что-либо такое, что может быть понято из одних только законов его природы» («Этика», часть IV, определение 8; см. также доказательство теоремы 20). Это одно из проявлений conatus’а, его специфически человеческая форма. Добродетель – это способность жить и действовать, как подобает человеку (в нормативном смысле выражения), то есть «под водительством разума» (IV, теорема 37, схолия) и в соответствии с «образцом человеческой природы» (часть IV, Предисловие), который мы сами для себя установили. Одного разума здесь недостаточно, ведь действовать побуждает не разум, а желание. Но и одного желания недостаточно, ведь надо желать того, что разумно и свободно (что одно и то же), и быть способным это совершить. Поэтому желание добродетели (как способность, а не как нехватка добродетели) и есть сама добродетель, но только в том случае, если она проявляется в действии. Conatus (здесь – «стремление к самосохранению». – Прим. пер.) есть «первичное и единственное основание добродетели» (часть IV, теорема 22, королларий). Это стремление к своему собственному благу (часть IV, теорема 18, схолия), которое одновременно является и благом всего человечества (часть IV, теоремы 36–37), и осуществление этого стремления (часть IV, теорема 73, схолия). Добродетель – это усилие, увенчавшееся успехом; это потенциальная способность, реализуемая в акте, сопровождаемая осознанием истинности своих действий и радостью.
Доброта (Bonté)
Свойство человека быть добрым, не столько отдельная добродетель, сколько сочетание в одном человеке нескольких разных и взаимодополняющих добродетелей: щедрости, мягкости, сострадания, благожелательности, иногда и любви. То, что такие люди существуют, хоть они и редки, и не вполне совершенны, – такая же непреложная, подтвержденная опытом истина, как и то, что существуют негодяи. Различия между теми и другими уже достаточно, чтобы наполнить смыслом, пусть и относительным, мораль и оправдать ее существование.
Можно добавить, что любовь без доброты – например, вожделение или ревность – перестает быть добродетелью, тогда как доброта без любви (как стремление делать добро тем, кто тебе безразличен, и даже тем, кого ненавидишь) остается доброй. Это ставит любовь на надлежащее место, которое бывает первым только в сочетании с добротой.
Доверие (Confiance)
Разновидность надежды, имеющей разумное основание и нацеленной не столько на будущее, сколько на настоящее, не столько на неведомое, сколько на хорошо знакомое, не столько на то, что от нас не зависит, сколько на то, что зависит именно от нас (каждый из нас волен доверять или не доверять кому-то или чему-то; мы сами выбираем себе друзей и врагов). Доверие не исключает ни ошибок, ни разочарований, но все-таки стоит больше, чем слепая надежда или тотальная подозрительность.
Доверие похоже на веру, но это действенная вера, направленная не столько на Бога, сколько на других людей или на самого себя. Возможна ли вера в Человека? Если и возможна, то она была бы глупостью или очередной религией. Доверие – это вера в человека, которого знаешь, и в той мере, в какой его знаешь. Чем лучше знаешь человека, тем больше ему доверяешь. Естественным «местом обитания» доверия является дружба.
Доверительность (Confidence)
Стремление рассказать кому-либо такие вещи о себе (и только о себе, ибо в противном случае это будет уже не доверительность, а бестактность), которых не открывают первому встречному. Доверительность – признак доверия, любви или близости. От признания отличается тем, что не предполагает обязательного чувства вины. От исповеди – тем, что не ждет прощения. Доверительность – особый язык, на котором говорят между собой друзья, слишком любящие друг друга, чтобы друг друга осуждать.
Довольство (Félicité)
Абсолютное счастье, непреходящая радость, на протяжении продолжительного времени сохраняющая неослабевающую силу. Но в самом понятии довольства заключено противоречие. Это переход (Спиноза, «Этика», часть III), который ни во что не переходит. Невозможность достижения довольства отличает нас от богов; мечта о нем – от животных. Абсолютное счастье на земле является тем, чем блаженство было бы на том свете. Двойной обман.
Догма (Dogme)
Истина, в непогрешимость которой мы верим и пытаемся навязать эту веру окружающим. Догма отличается от очевидности (в которую не надо верить) и критичности (предполагающей сомнение). Тем самым догма дважды уязвима, вернее, дважды отрицательна. Любая догма – глупость, и оглупляет как ничто иное.
Догматизм (Dogmatisme)
В широком значении – склонность следовать догмам и неспособность подвергать сомнению то, во что веришь. Догматизм выражает желание любить уверенность больше истины, что в результате приводит к тому, что догматик считает незыблемым все, что считает истинным.
В философском смысле догматизмом называют учение, утверждающее существование твердо установленных знаний. Это – противоположность скептицизма. В таком, техническом, значении слово «догматизм» не имеет уничижительного оттенка. Большинство великих философов – догматики (скептицизм в философии не правило, а исключение), и их догматизм имеет под собой вполне серьезные основания, в первую очередь – разум. Кто может сомневаться в собственном существовании, в истинности математической теоремы (если имеется ее доказательство), в том, что Земля вращается вокруг Солнца? В то же время неспособность сомневаться еще ничего не доказывает (каких-нибудь десять веков назад никто не сомневался, что Земля неподвижна, а постулаты Евклида универсальны). Значит, и скептики имеют право на существование – при условии, что их скептицизм не принимает формы догмата. Уверенность в том, что ни в чем нельзя быть уверенным, так же сомнительна, как любая другая, вернее, дважды сомнительна – ведь она противоречит сама себе.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Философский словарь"
Книги похожие на "Философский словарь" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Андре Конт-Спонвиль - Философский словарь"
Отзывы читателей о книге "Философский словарь", комментарии и мнения людей о произведении.