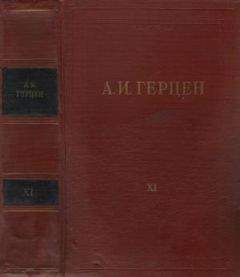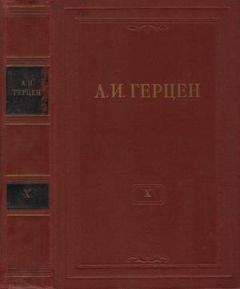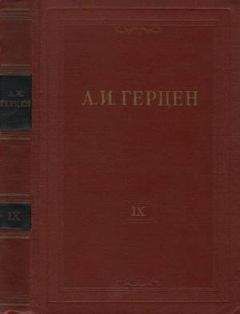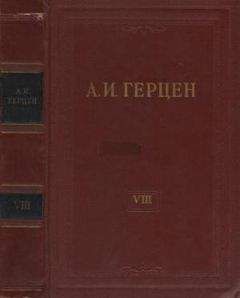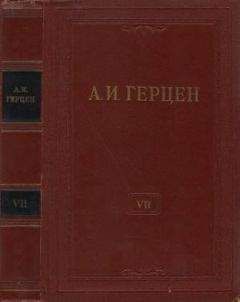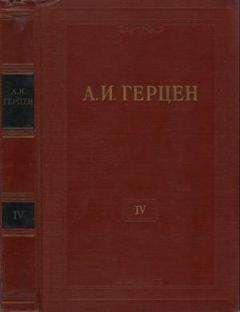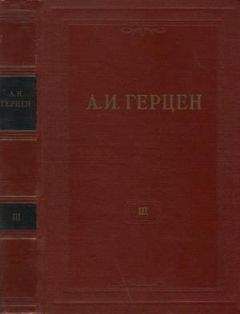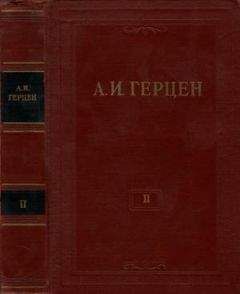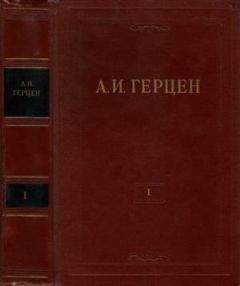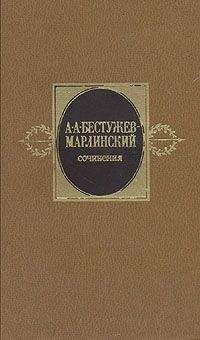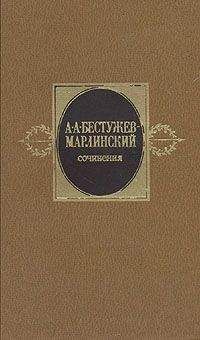Александр Герцен - Том 6. С того берега. Долг прежде всего
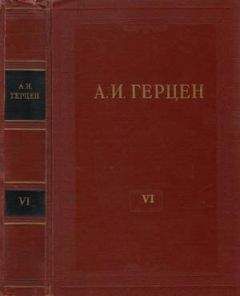
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Том 6. С того берега. Долг прежде всего"
Описание и краткое содержание "Том 6. С того берега. Долг прежде всего" читать бесплатно онлайн.
Настоящее собрание сочинений А. И. Герцена является первым научным изданием литературного и эпистолярного наследия выдающегося деятеля русского освободительного движения, революционного демократа, гениального мыслителя и писателя.
Шестой том собрания сочинений А. И. Герцена содержит произведения 1847–1851 годов. Центральное место в томе принадлежит книге «С того берега» (1847–1850). Заметка «Вместо предисловия или объяснения к сборнику» посвящена вопросу о создании вольной русской печати за границей. Статьи «La Russie» («Россия») и «Lettre d'un Russe à Mazzini» («Письмо русского к Маццини»), опубликованные автором в 1849 г. на французском, немецком и итальянском языках, представляют собою первые сочинения Герцена о России, обращенные к западноевропейскому читателю. Заключает том повесть «Долг прежде всего» (1847–1851).
После таких сильных потрясений живой человек не остается по-старому. Или душа его становится еще религиознее, бросается в ожесточенный фанатизм, с злым упорством находит в самом отчаянии утешение, и он вновь зеленеет, обожженный грозой, нося смерть в груди, или он грустно, но мужественно отдает еще строй верований и упований, становится трезвее и трезвее – и не удерживает последние слабые листья, которые уносит резкий осенний ветер. Что лучше?
Одно ведет к блаженству безумия.
Другое – к самоотвержению знания.
Выбирайте сами. Одно чрезвычайно прочно, потому что оно отнимает всё. Другое ничем не обеспечено – потому что оно многое дает.
Внутри души человеческой, в которой возбуждена мысль, есть постоянный революционный трибунал, есть беспощадный Фукье-Тенвиль – и, главное, есть гильотина. Иногда судья засыпает, гильотина ржавеет, ложное, прошедшее, романтическое, слабое поднимает голову – и вдруг какой-нибудь дикий удар будит суд и палача – начинается свирепая расправа Или казнить и идти вперед, или упасть на дороге, малейшая уступка, пощада, сожаление – ведет к реакции, ведет к прошедшему, оставляет цепи. А их-то снять – в этом вся задачи трибунала.
Первый шаг мышления, – говорил умирающий Дидро, – неверие. Это-то и есть страшный суд разума, о котором я говорю. Нелегко достаются эти казни, эти расставанья с мыслями, которые нам были святы но преданью, с которыми мы сжились, которые нас лелеяли, утешали, которые нам доставили минуты счастья и блаженства. Какая страшная неблагодарность – пожертвовать ими! Да. Но на той выси, на которой стоит трибунал, там нет благодарности, там неизвестно святотатство – и если революция, как Сатурн, ест своих детей, то мы, дети ее, как Нерон, убиваем нашу мать – лишь бы отделаться от прошедшего. Кто не помнит своего логического романа? Кто не помнит; как в его душу падала первая скептическая мысль, первая бодрость исследования – и как она захватывала более и более и подтачивала самые дорогие достояния юной души? Церковь и государство, семейные отношения, национальные предрассудки, добро и зло – являются последовательно перед здоровой критикой, но юноша, подвергая все суду и осуждению, стремится спасти клочки, отрывки, – отказываясь от христианства, он бережет бессмертие души, платоническую любовь, заприродность, романтизм, идеализм – и пуще всего Дух – провидение. Но остановиться невозможно, как я сказал, или замереть неподвижно и глупо на дороге, как верстовой столб, или предать суду и последнюю ношу, спасенную из прошедшего. И вот верховное бытие, абсолютный дух является на лавке подсудимых. Разум беспощаден, как Конвент, настает свое 21 января. Добрый и кроткий король приговорен к гильотине. Это первый пробный камень: все слабое, все половинчатое бежит, отворачивается, не подает голоса и идет назад, – другие, как жирондисты, произносят приговор, жалея подсудимого, воображая, что, казнивши его, нечего будет казнить, что 22 января республика готова и счастлива. Фейербах был accusateur publique[123]. Мы казнили бога. Казалось, все кончено – consomatum est. Как будто достаточно атеизма, чтоб не иметь религии.
Вспомните, террор именно начался после казни короля. Смотрите, вот являются на помосте благородные отроки революции – жирондисты, блестящие, красноречивые, самоотверженные. У вас текут слезы, опускаются руки – вам жаль их, но спасти невозможно, и окровавленные головы их показывает палач… Погодите отворачиваться – вот и голова Дантона, и за ним идет на ступени баловень революции Камилл Дюмулен… Ну, теперь, говорите вы с ужасом, теперь кончено, – извините – святые палачи идеи, Робеспьер и Сен-Жюст, будут казнены за то, что они верили в возможность демократии во Франции пятьдесять пять лет тому назад, – казнены, как Анахарсис Клооц, мечтавший о братстве народов, за несколько дней до Наполеоновской эпохи. – То же во внутреннем процессе. Отделавшись от крупных, очевидных представителей прошедшего, мы стали встречать на каждом шагу, в каждом чувстве, в каждом понятии что-нибудь христианское, религиозное, – казнивши царя, мы сделали царей из всякой всячины, так велика потребность рабства в нас, – поставивши статую разума, мы впали было в идолопоклонство перед нею. Мы сделались рабами отвлеченной законности, свободы, государства, – после грозного чудовищного опыта нельзя продолжать эту фантасмагорию. Кого же тащить на гильотину? Кто новые обвиняемые?
– Республика. – Suffrage universel…[124]
– Францию – да по дороге и всю Европу.
Казней много – неужели за этим останавливаться? Близким, дорогим надобно пожертвовать – мудрено ли жертвовать ненавистным, в том-то и дело, чтоб отдать дорогое. Я не остановлюсь, я знаю, что не будет миру свободы, пока все религиозное не превратится в человеческое, простое, подлежащее критике и отрицанью. Истина канонизированная, подавляющая человека, истина неприкосновенная – ошейник рабства на разуме. Разум не требует уничтожения, он, собственно, только расстригает из ангельского чина в людской, он превращает священные таинства в простые истины, неземных дев – в женщин. Если республика выдает себя за такое же божественное право, как монархия, если она свои капризы делает мне святым законом, то я ее презираю так же, как монархию. Нет, гораздо больше. Монархия в Европе – дело совершенно прошедшее, если она и существует кой-как – то у ней нет будущего. Она никогда не поправится от удара, нанесенного ей 24-м февраля. Республика не в том положении, от одного имени ее сильнее бьется наше сердце, мы влюблены в нее, республика – наш религиозный догмат. К ней надобно быть гораздо строже – пощады ей ждать невозможно, она ничего не щадила, эта Клеопатра, эта Лукреция Борджиа, у ней нет религиозных, поэтических, феодальных отговорок монархии, она с нами стоит на одном terrain[125]– какие ей уступки? Мы не уважили короны – пора перестать уважать и фригийскую шапку. Отсутствие царя еще не есть свобода. Монархическая власть не менее притеснительна в руках Собрания – только менее откровенна. Лудвиг-Филипп никогда не осмелился бы принять каваньяковских мер, он знал, что религия монархии прошла. – Во имя святости suffrage universel и самодержавья Собранья бомбардировал он Париж. Как же не разбить этот кумир? Пора перестать быть детьми. Не будем слабы – вспомним лучше Шиллера, как он вырвал Лауру из своего сердца:
Ich riß sie blutend aus dein wunden Herzen
Und weinte laut und gab sie ihr[126].
И пусть великим результатом страшных дней останется пониманье, что Французская республика очень далеко от того, чтобы удовлетворить потребности современного человека на свободу. Последний подвиг Франции – 24-е февраля – велик и колоссален, она дала программу новой эры, она поставила всемирно-исторический вопрос, она второй раз указала миру идеалы, к которым надобно стремиться, она второй раз имела святую дерзость осуществить то, о чем едва смеют мечтать. И погибла во второй раз за свою гениальную опрометчивость. Она, как Христос, распинается нашего ради спасения, – она, исходя кровью, умирая от голоду и насилия, завещает миру республику демократическую и социальную, – пример самоотвержения и мужества. Но ее минует и на этот раз плод, выработанный ею. Где почва во Франции для социальной республики? – Она только и может быть республикой мещанской, монархической, солдатской, притеснительной, давящей. Кучка самоотверженных, героических провозвестителей будущего, толпа, полная сил, свежести, мысли, – это работники больших городов. Они действительно граждане будущей республики. Все остальное против них и против истинной республики. Невежественный, тупой земледелец с свирепой злобой говорит о «коммунистах»; ограниченный, развращенный мещанин, мелкий эписье[127] и богатый банкир ненавидят их из корысти; распутная литература не понимает их. Тут армия и узкое законодательство не могут без скрежета зубов видеть что б то ни было свободное, недисциплинированное – для них мысль, не укладывающаяся в их формы, – беспорядок, человек, не идущий во фронт и нога в ногу, – мятежник. Где же место, простор свободе в этом мире, выращенном на крови, на неправде и нравственном растлении? Он был велик в прошлой борьбе, он был обманут, увлечен 24 февраля, – но теперь спохватился – и объявил état de siège[128], т. е. варшавский порядок. Франции 24 февраля нет. Францией июньских дней осталась она, буржуази налегла жабой на грудь побежденных и все подавила: свободную речь, право собираться, личное обеспеченье. Фонды поднялись на другой день после резни!
Но имя республики буржуа не предали, они поняли, что в республике первое место им, воля им, – и горе непокорным, в подвалы их, где вода по колено, в депортацию их. Франция осталась Францией Варфоломеевской ночи, Лудвига XIV, Наполеона. Старая Франция – ее ничто не изменит, кроме смерти.
Уж разрушался бы скорее этот мир, что сидеть над клюкой расслабленному и впавшему в ребячество старику, – пора костям на место – пора обновиться сыновьями. А где сыновья? – Не в Австрии ли, не в Пруссии ли? – Что-то плохо верится. А где были христиане в Риме? – в катакомбах, в пещерах – так и теперь ищите сыновей в душных мастерских, в переулках, в которых не осталось целого окна, не осталось стены, не облитой кровью, – там растет новое поколение, бледное, голодное, худое, отлученное от всех даров мира сего и от этого без всякой связи с ним. Им нечего жалеть ни цивилизацию, которая их оставила без образования, ни государство, которое им не дает куска хлеба, ни республику, которая им посылает фразы, обещанья – и ядры, если они осмеливаются просить исполнения. Эти люди неутомимо подкапывают под фундамент старого здания, они работают день и ночь, уловить, остановить их невозможно. Их называют чартистами в седой Англии, социалистами в седой Франции. Им и мы, дальние братья, можем протянуть руку – потому что они умеют отвечать симпатично. В них, как и в нас, нет той удушливой ограниченности, которая поражает в образованных европейцах. У нас, как и у них, нет ноши, мы не ломимся под тяжестью исторического наследия. У нас нет твердых правил этой каменной болезни мозга, мы не знаем застарелого безумья феодализма и римского права – и мы и они не имеем ни прошедшего, ни настоящего, – но будущее – наше.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Том 6. С того берега. Долг прежде всего"
Книги похожие на "Том 6. С того берега. Долг прежде всего" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Александр Герцен - Том 6. С того берега. Долг прежде всего"
Отзывы читателей о книге "Том 6. С того берега. Долг прежде всего", комментарии и мнения людей о произведении.