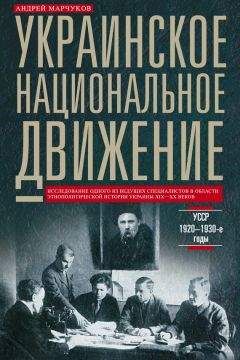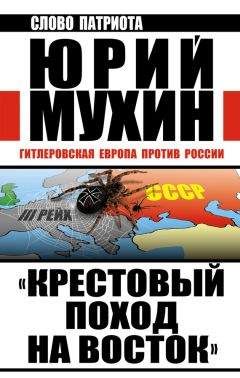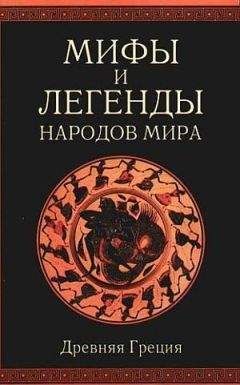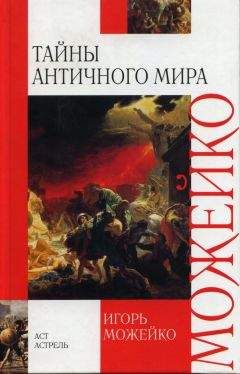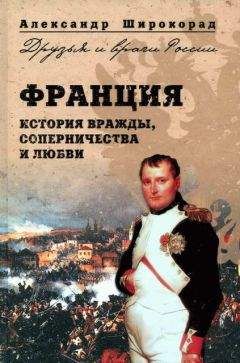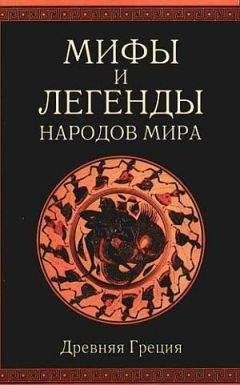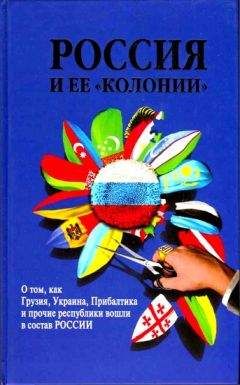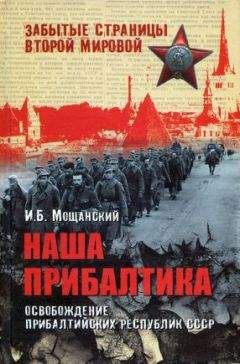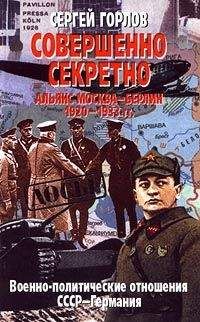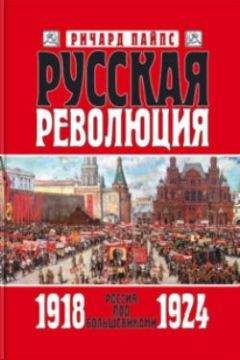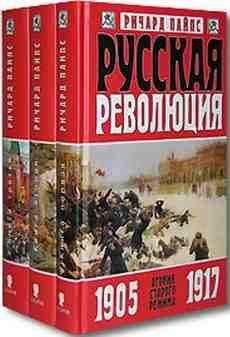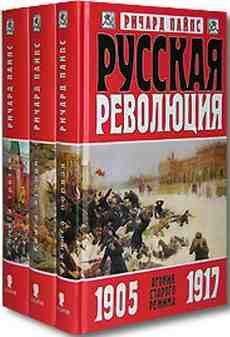Любовь Воробьёва - Прибалтика на разломах международного соперничества. От нашествия крестоносцев до Тартуского мира 1920 г.
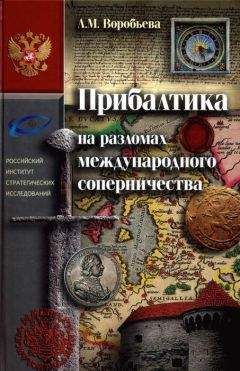
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Прибалтика на разломах международного соперничества. От нашествия крестоносцев до Тартуского мира 1920 г."
Описание и краткое содержание "Прибалтика на разломах международного соперничества. От нашествия крестоносцев до Тартуского мира 1920 г." читать бесплатно онлайн.
Вниманию читателей предлагается книга о полной драматизма судьбе Прибалтики и её коренных народов (преимущественно эстонцев) в условиях военного-политического, цивилизационного, информационно-психологического соперничества германцев (немцы, датчане, шведы) и славян (поляки, русские), мира западного (римско-католического, протестантского) и мира восточного (православного), носителей вестернизированной идеологии (социализм, этнонационализм, парламентаризм) и приверженцев идеологии традиционалистской (самодержавная власть, консерватизм, Единая и Неделимая Россия). Анализ охватывает более восьми столетий (XII — начало XX в.) и прослеживает процессы, приведшие к отрыву Прибалтики от России в 1920 г.
Ещё в 1884 г. был принят новый университетский устав, ликвидировавший автономию университетов, точнее, их обособленность от государства. Дело в том, что университеты, существуя на государственные средства, превращались в центры антиправительственной агитации[65]. Особые нарекания вызывал Дерптский университет. В русской прессе, защищавшей национально-государственные интересы России в Прибалтийском крае, он назывался оплотом враждебности к России. Озвучивались требования даже его закрытия. В 1889 г., т.е. через пять лет после внутрироссийской реформы организации высшего образования, Дерптский университет также потерял свою автономию: ректор, деканы и профессора теперь не избирались, а назначались министерством народного просвещения. В 1890 г. 37 профессоров выразили готовность вести занятия на государственном языке, который стал языком преподавания. В 1892 г. все факультеты перешли на русский язык, за исключением теологического. В результате произошедших перемен снизилось число немецких студентов, зато выросла доля эстонцев, латышей и особенно русских и евреев. Так, в 1916 г. русские составляли четверть студентов, на втором месте шли евреи (22,6%), затем немцы (15,7%), эстонцы (14,5%), поляки (6,8%) и латыши (6,3%){237}. В 1893 г. Дерпт был переименован в Юрьев, а Дерптский университет — в императорский Юрьевский университет. Знание русского (и немецкого) языков раздвинуло для представителей эстонских и латышских элит границы остзейских провинций и открыло возможности профессионального и социального подъёма на всей обширной территории империи. И этим они сумели успешно воспользоваться.
При Александре III стали возможны такие губернаторы, как князь Сергей Владимирович Шаховской в Эстляндии и Михаил Александрович Зиновьев в Лифляндии. Однако и здесь проявилась половинчатая политика центральной власти. Оба губернатора отстаивали русские интересы в Прибалтике, но каждый — со своих позиций. Шаховской принадлежал к кругу убеждённых славянофилов и стремился к объединению Прибалтийского края с империей не только в формально-административном, но и духовно-нравственном смысле, что предполагало опору на русофильскую эстонскую интеллигенцию, а через неё — и на народ, стремившийся к равноправию с немцами. Зиновьев был западником и считал, что правительству следует опираться в крае на консервативные дворянские элементы. Руководствуясь обширной программой по реализации политики Александра III на балтийском направлении, он, в случае обострения отношений с немецкой оппозицией, был всё же готов пойти на уступки там, где ему казалось это возможным. Шаховской же полностью исключал для себя как представителя государственной власти всякую торговлю с местным немецким элементом и настаивал на обязательности исполнения требований правительства. Видя, как немцы искусно и ловко опутали Зиновьева, этого, несомненно, русского и честного человека, Шаховской констатировал, что политика уступок в крае облегчает прибалтийским немцам борьбу с правительственными мероприятиями, и правительство в таком случае оказывается в заговоре против самого себя{238}.
Сам же Шаховской в период своего губернаторства в Эстляндии, прерванного скоропостижной смертью, выступил убеждённым борцом за утверждение православно-русских начал в крае и ни на шаг не отступил там, где спасовали его многие предшественники. За самоотверженную службу на благо России и противопоставление многовековому немецкому влиянию в крае решительных мер по сдерживанию процесса онемечивания этого стратегически важного региона прибалтийско-немецкие историки приклеили к его личности ярлыки «русификатора» и «русского шовиниста». Такие негативные оценки деятельности Шаховского были верноподданнически подхвачены «можжевеловыми немцами» из числа расколовшейся эстонской национальной интеллигенции, перекочевали в обличительную литературу революционной социал-демократии, боровшейся с подачи Ленина с «великодержавным русским шовинизмом» так же непримиримо, как и с самодержавием, а затем утвердились и в советской исторической литературе и, конечно, в современной эстонской историографии, в том числе и русскоязычной.
Чем же так не угодил князь Шаховской своим немецким, советским и эстонским критикам?
Будучи не только убеждённым христианином, но и дальновидным администратором, он выступил радетелем православия в Эстляндии{239}, ибо в присоединении местного населения к православию, в котором национальность сглаживается или вовсе исчезает, видел важнейшую предпосылку объединения Прибалтийского края с Россией и снятия так называемого остзейского вопроса. Эту позицию он неоднократно отстаивал в своих письмах 1886–1887 гг. к высшим государственным чиновникам. Обращаясь к обер-прокурору Святейшего Синода К.П. Победоносцеву, Шаховской так аргументировал свой подход, сложившийся в чёткое убеждение: «Суть дела заключается в уничтожении единственной политической связи между иноплеменными здешними господами и их рабами, заключающейся в общности религии. Ни для кого не секрет, что в здешнем крае протестантство есть политическое орудие, и притом весьма сильное, в руках балтов, преследующих в этом крае свои идеалы и цели, противоположные целям правительства… Протестантство продолжает быть чуждым природе населения, не удовлетворяет его духовной жажды, чем и объясняется лёгкость перехода крестьян не только в православие, но и в сектантство… Эсты и латыши могут стать русским людям близкими, считаться своими и действительно объединиться с великой русской семьёй, скорее всего сделавшись православными. Посему в основу объединительной политики должно быть прямо и откровенно поставлено православие. С падением протестантства падёт и так называемый остзейский вопрос»{240}.
Однако такая постановка вопроса, хотя в корне и верная, всё же была запоздалой, а потому и нереалистичной даже в условиях «обрусительной» политики Александра III. Дело в том, что такого же мощного движения снизу к православию, как в 1840-е гг., уже не было. Немцы через Церковь, школу, экономические репрессии, привлечение на свою сторону части национальной интеллигенции сделали максимум возможного, чтобы так напугавшая их «буря», вызванная переменой вероисповедания недавними рабами, не повторялась. Кроме того, прямой и откровенный упор на православие в процессе объединительной политики требовал больших денег на строительство православных церквей, церковноприходских школ, недопущение экономического притеснения новообращённых немецкими помещиками и пасторами. Достать таких денег в крае, хотя он и находился под суверенитетом России, было невозможно, поскольку экономические рычаги управления краем (прежде всего собственность на землю и доходы с неё) были по-прежнему в руках немцев. Привлечение же денег извне, например по линии государственного бюджета, пожертвований и т.д., никогда не достигало объёмов, способных принципиально решить проблему. Выделение ассигнований на нужды православной Церкви в крае всегда сопровождалось ссылкой правительственных чиновников на нехватку средств, было ниже потребности и гораздо ниже того финансирования культурной и религиозной инфраструктуры особого остзейского порядка, которое могли себе позволить немецкие дворяне и пасторы, опираясь на экономический потенциал Прибалтийского края. И это различие в финансовом и кадровом обеспечении не в пользу русского и православного дела в Прибалтике с годами только увеличивалось.
И всё же Шаховской во время своего девятилетнего правления в Эстляндии показал, как много может достигнуть администратор, честно служащий интересам России.
В 1883 г. в Прибалтийском крае началось третье массовое движение лютеран к православию. Если первые два движения (в 1841 г. при епископе Иринархе и в 1845 г. при епископе Филарете) разворачивались в Лифляндии, то третье происходило, главным образом, в Эстляндской губернии. Как и в первых двух случаях, это движение было вызвано тяжёлым социально-экономическим положением крестьянства, неприятием господства баронов, нравственно-религиозными исканиями крестьян, не находившими опоры в лютеранской Церкви, которая воспринималась как церковь господ.
На этот раз переход в православие был менее интенсивным. Его конкурентом явилось наступавшее с запада, с островов сильное сектантское религиозное движение: гернгутеры, субботники, ирвингиане (особенно пиетисты, или молитвенники), скакуны (или квакеры), баптисты и т.д. Православная Церковь ответила на вызов сектантов встречным движением с востока. И там, где эстонцы соприкасались с православными русскими (на границах с Лифляндией), сектантское движение не принимало таких болезненных форм, как на западном поморье Эстляндии.
Первоначально новая тенденция присоединения к православию заявила о себе в юго-западной части Эстонии. Крестьяне Леальского лютеранского прихода возмутились высокими ценами за церковные требы (в частности, за конфирмацию), и сразу же поползли слухи о том, что переходящие в православие освобождаются от церковных сборов, а земли имений помещиков будут разделены между православными крестьянами. 25 апреля 1883 г. первым принял православие портной Адам Пябо. За ним последовали другие, причём не только крестьяне, но и местный ремесленный и торговый люд. Из Леаля движение постепенно распространялось на окрестные волости и деревни. В 1883 г. в Эстляндии приняли православие 2469 лютеран и более 500 человек подали письменное заявление о своём желании перейти в православную веру. Пасторы и помещики, поддержанные немецкой периодической печатью, ответили не только информационно-психологическими акциями по компрометации движения, но и требованиями в судебном порядке от присоединившихся ликвидировать задолженности по лютеранским повинностям. А это могло привести к разорению крестьян. Никакие жалобы православных местным властям не помогали, поскольку те смотрели на сбор лютеранских повинностей как на законный акт.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Прибалтика на разломах международного соперничества. От нашествия крестоносцев до Тартуского мира 1920 г."
Книги похожие на "Прибалтика на разломах международного соперничества. От нашествия крестоносцев до Тартуского мира 1920 г." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Любовь Воробьёва - Прибалтика на разломах международного соперничества. От нашествия крестоносцев до Тартуского мира 1920 г."
Отзывы читателей о книге "Прибалтика на разломах международного соперничества. От нашествия крестоносцев до Тартуского мира 1920 г.", комментарии и мнения людей о произведении.