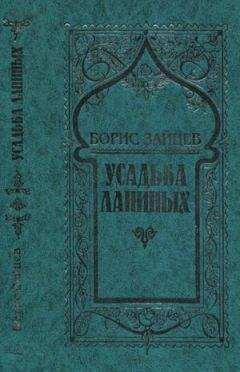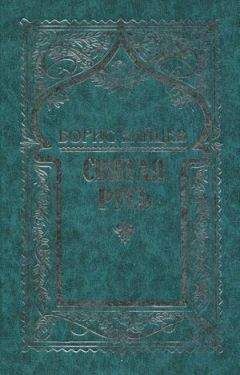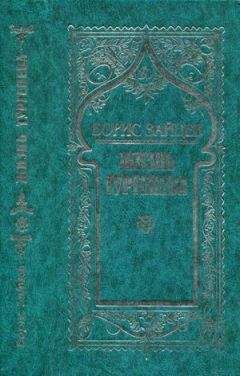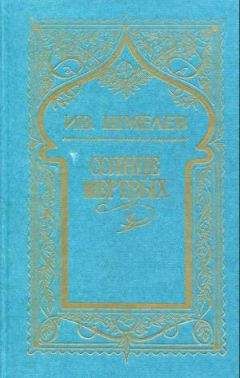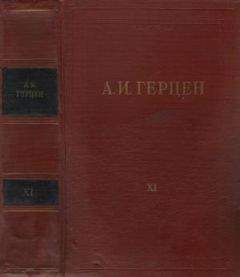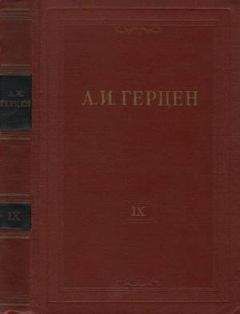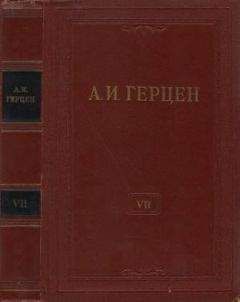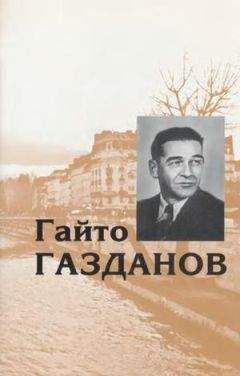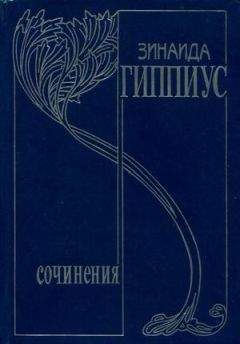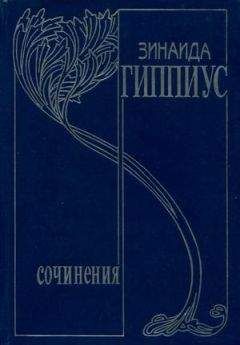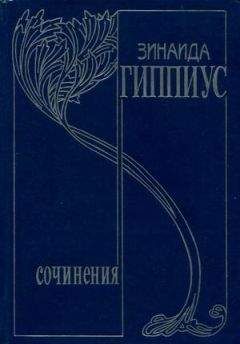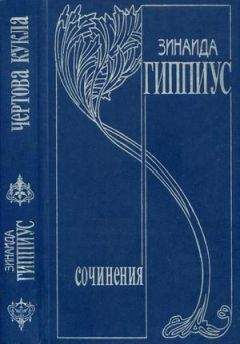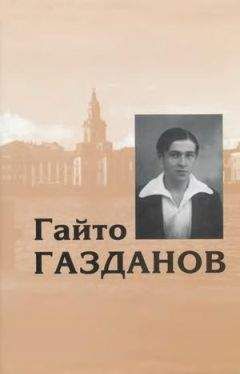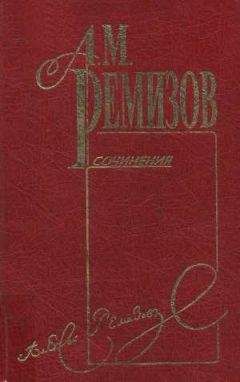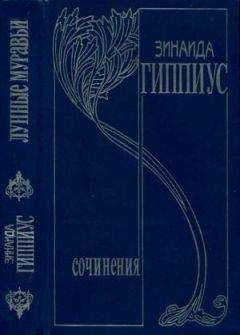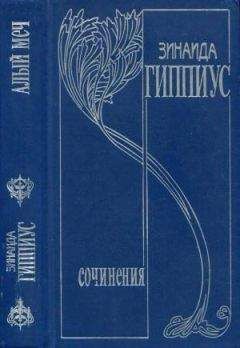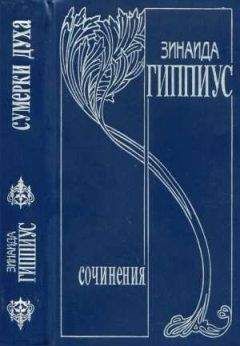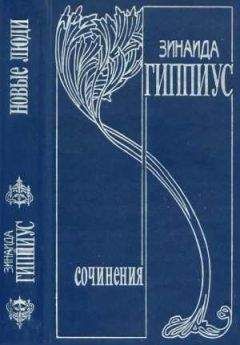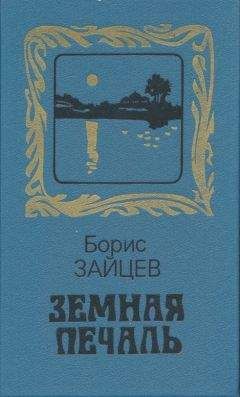Борис Зайцев - Том 4. Путешествие Глеба

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Том 4. Путешествие Глеба"
Описание и краткое содержание "Том 4. Путешествие Глеба" читать бесплатно онлайн.
В четвертом томе собрания сочинений классика Серебряного века и русского зарубежья Бориса Константиновича Зайцева (1881–1972) печатается главный труд его жизни – четырехтомная автобиографическая эпопея «Путешествие Глеба», состоящая из романов «Заря» (1937), «Тишина» (1948), «Юность» (1950) и «Древо жизни» (1953). Тетралогия впервые публикуется в России в редакции, заново сверенной по первопечатным изданиям. В книгу включены также лучшая автобиография Зайцева «О себе» (1943), мемуарный очерк дочери писателя Н. Б. Зайцевой-Соллогуб «Я вспоминаю» и рецензия выдающегося литературоведа эмиграции К. В. Мочульского о первом романе тетралогии.
От дома остался островок: кабинет, где он спал, комната Агнессы Ивановны да столовая, откуда шла лестница вниз, в полуподвальный этаж. Некогда там помещались «молодцы» кожевенного дела, а теперь кишели всякие насельники, довольно разнообразные. Жильцы занимали и разгороженную на трое залу наверху – любовались там копией Каналетто. Целая семья разместилась в зеленой гостиной, где некогда Глеб и Элли проводили лето перед рождением Тани – и все это журчало, гудело неумолчным шумом, неизбежным и необходимым в таких ульях. И советским служащим, и рабочим, и «полуинтеллигентам» тоже хотелось жить, поскорее вкусить всех сладостей бытия – им представлялось еще это весьма простым и легким.
Разные попадались среди них, и лучше, и хуже, но повсюду готовили на примусах, сушили в комнатах белье, стирали, гладили, ругались, ссорились, мирились. Столовая, хотя и считалась колесниковской, но скорей ее можно было назвать узловой станцией – снизу вверх непрерывно шныряли бабки, бегали дети, проходили к жильцам посетители. Пар от корыт с пеленками то подымался снизу, из подземных царств, то просто, очень откровенно расстилался над маскою Петра и Венецией Каналетто.
Все это с жизненного конца понятно, даже и неоспоримо. Все-таки тягостно: Агнесса Ивановна просто боялась, по ночам запирала дверь на ключ – мало ли кто может забраться и поискать, не спрятано ли чего. Иногда Маркан ночевала у нее, чтобы не было так жутко. Или барон, облысевший, но такой же элегантный, как и прежде, работавший теперь в советском теннисе, пристраивался на ночь на сундучке. Но от Маркана с ее предсказаниями и мраком становилось еще жутче, барон вел жизнь таинственную, полную авантюр – Герцена же Агнессе Ивановне вслух более не читал.
Геннадий Андреич тоже запирался на ночь. Но не из боязни: для порядка. Он ничего никогда не боялся, всегда чувствовал свое превосходство и силу. В ранние годы это выражалось иногда резко: то, что называется крутой характер. Теперь же не только Анна, а и другие, и он сам стали замечать в нем изменение, смягчение. Преодолеть отталкивания от муравейника он не мог – слишком уж это не по нем. Но в жизни его не все было по-старому. Например, стал он ходить в церковь, чего раньше не делал, с удивлением замечая, что церковная служба с ее ритмом, глубоким благообразием, так далеким от хаоса и некрасоты вокруг, действовала успокоительно. Как бы настраивала душу и размягчала.
Когда после всенощной (все у того же Ильи-Пророка через улицу, куда некогда возили рысаки его покойную мать) он возвращался домой, в осажденную крепость, то взгляд его на осаждающих смягчался. Не то, чтобы они особенно приближались. Но его более светлый и покойный внутренний мир менее задевали. «Что говорить-с, – думал сам с собой, снимая в кабинете потертое довоенное пальто, – что говорить, все это величайшая катастрофа. Господь, однако, попустил ее. Его святая воля, значит, так нам и надо-с, заслужили…»
Когда же вновь погружался в свои книги, слепки монет, фотографии, тот мир, в котором прожил жизнь, приобретал двойную прелесть.
А на службе появились для него и новые трудности.
В музее все осталось как бы прежнее: во главе старый безобидный князь (ему прощалось даже его княжество), Геннадий же Андреич, как и раньше, старший хранитель: душа и глава всего.
Делами наук, искусств заведовала в Москве сановная дама.
При музее от нее комиссар, молодой и задорный, как все тогда упоенный властью – он и являлся прямым надзором за Геннадием Андреичем. Сановница подчеркивала свою культурность и некоторый европеизм – в молодости подолгу жила в Париже и Женеве. Иной раз заезжала и сама в музей. Геннадий Андреич почтительно ей показывал, как некогда Великой княгине, свои владения. Она держалась вежливо, но отдаленно. Иногда делала мелкие замечания, которые он исполнял в точности. «В нашем деле не понимает», – говорил потом князю, крупному старику с татарским лицом, который и сам мало что понимал: но могло быть и хуже.
С комиссаром, товарищем Баландой, получалось труднее. («И откуда у них такие фамилии? Ну были раньше Семеновы и Петровы, а теперь разные Якиры, Ягоды… Удивительно!»)
Товарищ Баланда, краснощекий герой гражданской войны, молодой, бурный, считал свое комиссарство при музее делом временным и малоинтересным. Ему мерещились гигантские осуществления – постройки новых городов, заводов, отвод русл рек, переделка вообще всего мира, а тут какие-то каменные бабы да скифские резные украшения, кинжалы, чаши…
Он задыхался. Чтобы сколько-нибудь дать себе ходу, предпринимал неожиданные шаги: в Киевской зале надо все переставить, а для Московской воспользоваться прежней Новгородской. Немедленно разобрать ящики в архивах частных дарений и в свезенном из разных углов России в революцию.
Геннадий Андреич повиновался, вещи переезжали из залы в залу. Он хмуро надевал пенсне, которое обычно носил на отвороте пиджака, сумрачно наблюдал за работами, которые, по его мнению, были ни к чему, иногда вздыхал, но в глубине души радовался, что до его любимых монет и древних печатей Баланда пока не добрался.
«Ничего не поделаешь, надо терпеть» – шумный, полуграмотный мир так был ему чужд! Но держали стены. Самые стены музея, где десятки лет он работал, сами предметы и коллекции, среди которых жил, стали убежищем. С ним же самим Баланда держался довольно прилично. Называл «товарищ заведующий» («Какой я ему товарищ, он просто мальчишка, понятия не имеющий ни об истории, ни об археологии…») – иногда даже спрашивал: «Какая это монета?» Или: «Что такое ваза? Чем знаменита?»
Отвечать приходилось осторожно. Это не Глеб студенческих времен, это начальство, считающее, что оно все знает и во всяком случае сумеет сделать все и переделать много лучше прежнего.
Однажды Баланда наткнулся на небольшую фотографию – снимок с гипсовой плакеты. Изображался на ней Геннадий Андреич: сидит за столом с книгами, в руке увеличительное стекло. Большой лоб, переходящий в лысину, усы, бородка клинушком, на отвороте пиджака вечное пенсне – старый русский ученый, сподвижник Забелиных, Кондаковых, ничего тут не скажешь.
– Вас похоже сделали, товарищ, – сказал Баланда. – А что это вообще такое? По какому случаю?
Геннадий Андреич не весьма был доволен, что снимок попался на глаза Баланде. (Обычно лежал у него дома, и даже ближайшим своим не очень-то показывал он его.)
– Да, я затащил в каких-то книгах из дому, это все прежнее, ненужное… – и с недовольным видом протянул он руку, чтобы взять фотографию.
– Тут цифры римские. Что значит? А, да пожалуй, юбилей?
– Вы совершенно верно угадали: юбилей. Ну, что об этом говорить.
Но Баланда стал рассматривать и не сразу отдал. Цифры на плакете указывали: 1883–1913 – тридцатилетие службы в музее.
– В вашу честь медаль выбили, дело хорошее, товарищ заведующий. Значит, вы и при старом режиме являлись показательным работником. 1913! А теперь много больше, и при нашей власти герои труда также получают отличия. Работайте, работайте, орден Ленина получите.
Геннадий Андреич промолчал и недовольно сунул себе в карман фотографию. Баланда же считал, что обошелся очень милостиво со стариком, и чуть было даже не похлопал его одобрительно по плечу.
Домой Геннадий Андреич возвращался в тот день хмурый. Ничего, собственно, не имел против этого Баланды, но неприятно действовали его обмотки на ногах, гимнастерка, вихры на висках. «У меня и Государь в музее бывал, и другие ордена есть, но Государь по-другому держался… Баланда-с… одолжил бы орденом Ленина! Вот бы одолжил-с…».
У Геннадия Андреича были действительно ордена. Была и треуголка, в которой приходилось иногда ездить к генерал-губернатору на прием. Но он вообще всего этого не любил, ордена прятал подальше. Однако назывались они: св. Владимир, св. Анна… – а тут отличить собираются Лениным! «Нет-с, уж с меня достаточно. Никаких орденов, никаких героев труда».
То, что Баланда счел его чуть ли не героем труда, особенно раздражало. Герой труда! Самое выражение это приводило его в дурное настроение.
Прежде, подходя к своему дому, он подымался с улицы на несколько ступенек, мимо палисадника, звонил у подъезда. Теперь парадная раз навсегда заперта, ходили низом с черного хода – там всегда открыто.
Как обычно, он уверенно дернул за ручку входной двери: кисловатый, невеселый и несветлый воздух полуподвала. Но вот оглашается он детским воплем – прямо перед Геннадием Андреичем искаженное, позеленевшее лицо худого, рваного человека, в ногах у него визжит и бьется мальчишка, которого он лупит ремнем.
– Я тебе покажу колодки мои таскать, я тебе, сукину сыну, всю провизию искровеню…
– Дяденька, ей-ей не крал, я только поиграть хотел… дяденька…
Геннадий Андреич знал этого сапожника, «кустаря-одиночку» и терпеть его не мог: раздражали жилистые руки, яблоко на тонкой шее, потное чахоточное лицо, вечная озлобленность.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Том 4. Путешествие Глеба"
Книги похожие на "Том 4. Путешествие Глеба" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Борис Зайцев - Том 4. Путешествие Глеба"
Отзывы читателей о книге "Том 4. Путешествие Глеба", комментарии и мнения людей о произведении.