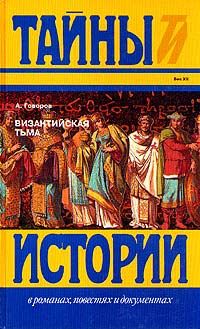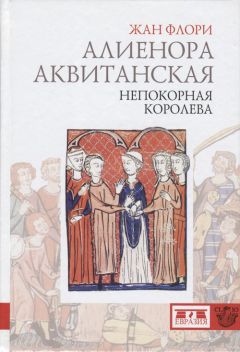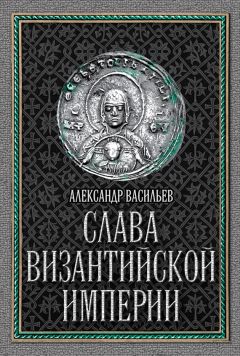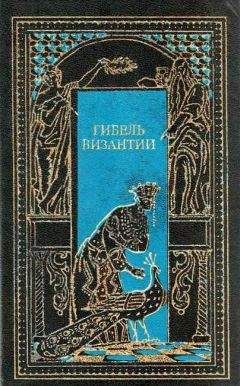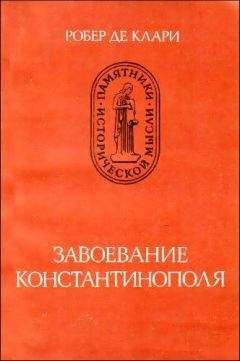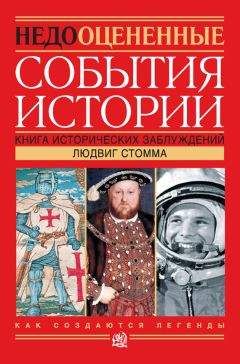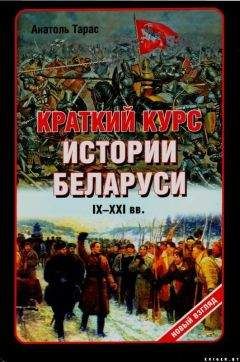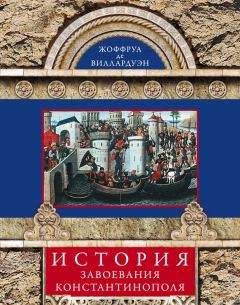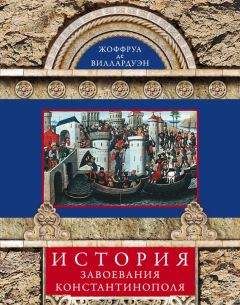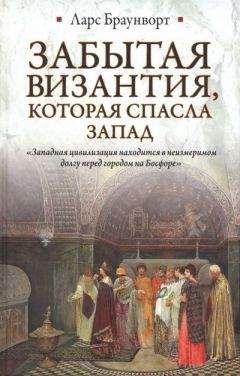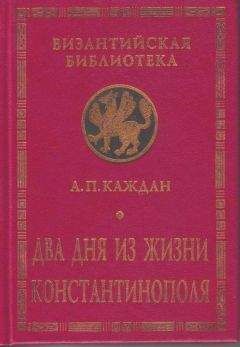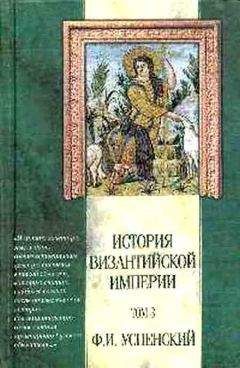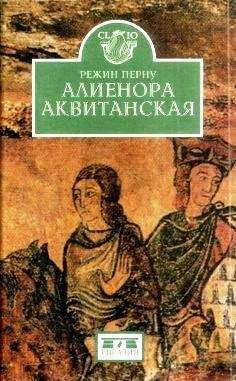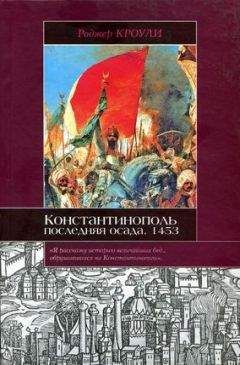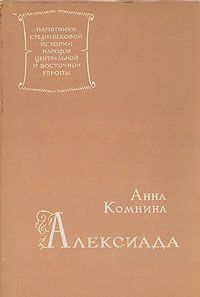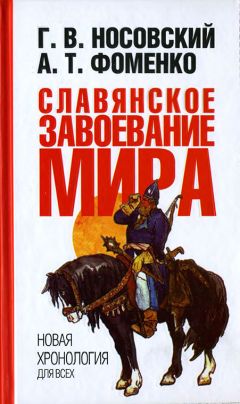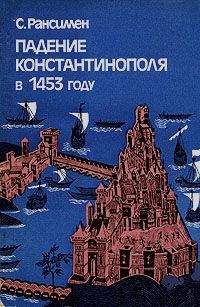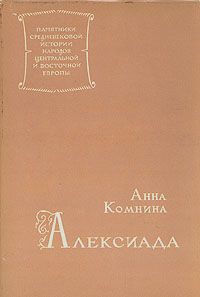Жоффруа Виллардуэн - Завоевание Константинополя
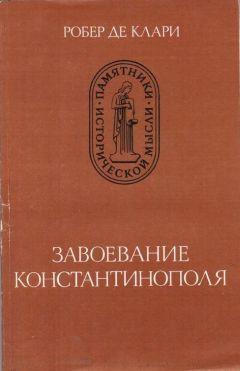
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Завоевание Константинополя"
Описание и краткое содержание "Завоевание Константинополя" читать бесплатно онлайн.
Созданный около 1210 г. труд Жоффруа де Виллардуэна «Завоевание Константинополя» наряду с одноименным произведением пикардийского рыцаря Робера де Клари — первоклассный источник фактических сведений о скандально знаменитом в средневековой истории Четвертом крестовом походе 1198—1204 гг. Как известно, поход этот закончился разбойничьим захватом рыцарями-крестоносцами столицы христианской Византии в 1203—1204 гг.
Пожалуй, никто из хронистов-современников, которые так или иначе писали о событиях, приведших к гибели Греческого царства, не сохранил столь обильного и полноценного с точки зрения его детализированности и обстоятельности фактического материала относительно реально происходивших перипетий грандиозной по тем временам «международной» рыцарской авантюры и ее ближайших последствий для стран Балканского полуострова, как Жоффруа де Виллардуэн.
Такой идейный подтекст прославления венецианцев проступает у Жоффруа де Виллардуэна особенно рельефно при сравнении «параллельных» описаний одних и тех же событий им, с одной стороны, а с другой — Робером де Клари и графом Гюгом де Сен-Полем (в его послании к герцогу Анри Лувенскому)[107]. Оба последних свидетеля вовсе не останавливаются на действиях венецианцев, включая и дожа, под Константинополем в 1203 г. Робер де Клари (гл. XLVI) ни слова не говорит ни о трудностях, с которыми вначале столкнулись крестоносцы, осадившие византийскую столицу, ни о якобы (по Виллардуэну) решившем исход сражения вмешательстве Энрико Дандоло. Не усматривает пикардийский рыцарь-хронист в победе «пилигримов» и никакого «чуда». Лишь в гл. XLIX он в нескольких строках отмечает, что венецианцы (уже после общего успеха!) запросили вестей от французов и сами уведомили их о своей победе, но она в его глазах не есть нечто поразительное и чудесное. Об овладении же именно 25 башнями пикардиец и вовсе не приводит каких-либо до такой степени уточненных сведений. Напротив, Виллардуэн «к месту» использует как раз это «круглое» число, дабы воздать честь доблестным венецианцам.
Те же различия налицо и в освещении многих иных эпизодов, в которых, судя по рассказу маршала Шампанского, были задействованы венецианцы.
Каков, к примеру, их «вклад» во вторичное завоевание Константинополя (апрель 1204 г.)? В хвалебном пассаже о захвате одной из крепостных башен Виллардуэн в качестве героев, положивших почин генеральному вторжению и триумфу крестоносцев, называет некоего венецианца и французского рыцаря по имени Андрэ Дюрбуаз (§ 242): они первыми взобрались на башню, за ними туда ворвались остальные, и защитники башни покинули ее. Робер де Клари, в отличие от маршала Шампанского сплошь и рядом восхищающийся отдельными «подвигами» героев-рыцарей, приводит гораздо более обстоятельные и, возможно, более достоверные данные об этом эпизоде. Да, в самом деле, на башню первыми взобрались двое, венецианец и француз, но венецианец тотчас ,был изрублен в куски англами, данами и греками, оборонявшими это укрепление, тогда как француз, снеся все удары, обрушившиеся на него, и даже будучи ранен, сумел подняться на ноги, устрашив врагов своей смелостью, и выгнать их прочь (гл. LXXIV).
В чем состояла роль венецианцев в организации отступления после адрианопольской катастрофы в апреле 1205 г.? Виллардуэн со всеми подробностями сообщает, как, стараясь вместе с Манассье де Лилем приостановить беспорядочное бегство рыцарей, спасшихся от разгрома, он послал гонцов в лагерь к дожу за подмогой, как дож без всякой паники явился со своим отрядом «на равнину, где они стояли» (§ 364), как затем «мудрый, умный и отважный» Энрико Дандоло вернулся в лагерь, навел там порядок, а с наступлением ночи соединился с рыцарями, возглавлявшимися «маршалом Романии и Шампани», причем пошел в авангарде воинов (§ 366), маршал же — в арьергарде, и они «никого не оставили», а под покровом ночи ушли из-под Адрианополя и двинулись к Константинополю, хотя враг (болгары) наседал и на рассвете едва не настиг рыцарей (§ 371): если бы это случилось, «была бы им верная смерть» (там же). Таким образом, тесное взаимодействие и спокойная, хладнокровная согласованность в принятии необходимых мер маршалом Жоффруа де Виллардуэном и дожем Энрико Дандоло вызволили «пилигримов» из грозившей им смертельной опасности.
Совсем иначе «подаются» те же события Робером де Клари: разгром при Адрианополе — возмездие Божье вождям и крестоносцев и венецианцев, допустившим ошибки; более того, по версии Робера де Клари, дож, узнав о поражении рыцарей у Адрианополя, отнюдь не выказал рассудительности и выдержки, но поспешно бежал, бросив все и поддавшись общей панике (гл. CXII),— изображение событий, прямо противоположное виллардуэновскому и ясно оттеняющее тенденциозный подход последнего к оценке действий столь чтимых им венецианцев.
К мотивам апологетического свойства относится в хронике маршала Шампанского и возвеличение маркиза Бонифация Монферратского, которого автор на протяжении всей хроники как бы берет «под защиту». В этом смысле Жоффруа де Виллардуэн также занимает четко выраженную классово-политическую и проникнутую социально окрашенным субъективизмом позицию. С нее-то он и рисует идеализированный портрет главного предводителя крестоносцев, который, собственно, и стал таковым стараниями маршала Шампанского в 1202 г. Трагическая гибель маркиза на поле битвы с болгарами, когда вассалы бросили на произвол судьбы своего сюзерена, возвышает его образ до уровня эпического героя[108].
О какой-либо строгой объективности в подобных оценках и характеристиках говорить едва ли приходится. Тенденция к превознесению маркиза выступает тем рельефнее, что в массе простых крестоносцев сложилось устойчивое и совсем другое представление, нежели то, которое навязывает своей аудитории (и в правдивости которого, вероятно, не сомневается) «маршал Романии и Шампани». Причем он словно старается рассеять «предубеждения» в отношении Бонифация Монферратского, распространенные среди рыцарской мелкоты, отвести от него если не «обвинения», то «подозрения» насчет действительного значения его политики и «подозрения», исходившие из этой, рыцарской среды. Отчетливее всего они отразились опять-таки в хронике Робера де Клари, где фигура Бонифация Монферратского рисуется в темных тонах и где краски особенно сгущаются к концу повествования[109]. Пикардийцу очевидно, что маркиз с самого начала являлся ставленником баронов. Явственно оттеняются лицемерие Бонифация Монферратского, подлинные мотивы его политической линии во время похода (а он энергично ратовал за поворот к Константинополю), ничего общего не имевшие ни с благочестием, ни с интересами «восстановления справедливости» (не случайно эти лжемотивы Робер де Клари формулирует в виде прямой речи, вкладываемой им в уста самого маркиза, тогда как подлинные излагает от собственного лица, от имени рассказчика)[110]. Подчеркиваются алчность маркиза, занявшего лучшие дворцы в захваченном во второй раз Константинополе, его непомерное честолюбие (неуемные притязания на трон Латинской империи), нарушение вассального долга по отношению к Бодуэну Фландрскому — самовольный захват г. Салоник и попытки завладеть Адрианополем (сперва силой, затем хитростью: чтобы войти в доверие к жителям, Бонифаций ссылается на то, что его жена — это бывшая супруга Исаака II и он, следовательно, имеет права на город). В представлении Робера де Клари, Бонифаций Монферратский — прежде всего один из знатных баронов, ущемивших интересы рыцарства при дележе константинопольской добычи. К тому же он — политический противник баронов Северной Франции (включая Пикардию), поддерживавших кандидатуру графа Бодуэна Фландрского на трон Латинской империи.
Напротив, Виллардуэн — писатель, бесспорно, тоже резко пристрастный, хотя и иначе, чем Робер де Клари, изображает Бонифация Монферратского в самом достохвальном виде. Он «отбивает» нападки тех, эхо мнений которых звучит в записках Робера де Клари. Вряд ли, конечно, Жоффруа де Виллардуэн был знаком с его произведением, но ведь сведения и сама концепция пикардийца являлись отголоском воззрений рыцарской голытьбы, отголоском суждений, которые, вероятно, высказывались в той или иной форме во время похода и на которые, возможно, маршалу Шампани даже приходилось непосредственно отвечать[111]. В его же глазах Бонифаций Монферратский — это prodom, или mult prodom (§ 41) — понятие, охватывавшее самые различные феодальные достоинства и добродетели, в том числе физическую силу, моральную безупречность, соответствующее социальное положение, верность религиозным идеалам, отвагу и т. п. Рассказывая об избрании маркиза преемником Тибо III Шампанского в 1202 г. на пост главнокомандующего, Виллардуэн подчеркивает его скромность (он «припал к стопам баронов» — § 43); указывается на то, что выбор, подсказанный баронам им, маршалом Шампани, одобрили такие церковные иерархи, как епископ Нивелон Суассонский, два ломбардских аббата, а также «святой человек» Фульк де Нейи (§ 44). Самая лестная характеристика дается маркизу и позже, когда хронист сообщает о предоставлении Бонифацию Салоник императором Бодуэном Фландрским: все войско возрадовалось этому, «ибо маркиз был одним из доблестнейших рыцарей на свете и одним из самых любимых, и никто так щедро не одаривал их, как он» (§ 265). Похвалы расточаются даже тогда, когда речь идет о его конфликте с латинским императором: в Константинополе навстречу маркизу вышли «многие добрые люди, ибо его очень любили в войске» (§ 298) — оценка, не вяжущаяся сданными Робера де Клари.
В изображении Виллардуэна Бонифаций на протяжении всего похода выказывает самые отменные черты: он весьма благочестив и якобы потому соглашается принять на себя честь и бремя предводительства крестоносцами (он делает это «ради Господа» — § 43); в Венеции он, подобно другим баронам, занимает деньги для уплаты ей за корабли — это ли не доказательство его религиозного рвения, великодушия, уважения к слову, данному венецианцам? (§ 61). Маркиз выказывает лояльность венецианцам и в Задаре, изъявляя согласие подписать вместе с дожем соглашение о походе на Константинополь (§ 98—99). На о. Корфу, когда возникает реальная опасность, что войско разойдется, маркиз — среди тех баронов, кто «припал к стопам» рыцарей и сеньоров, собравшихся бросить антиконстатинопольскую затею, — он убеждает их остаться с войском (§ 115—117). Маркиз энергично выступает в поддержку царевича Алексея, побуждаемый лишь соображениями чести и заботы о доведении до конца начатого дела: было бы «постыдным» отказываться от соглашения об условиях восстановления Алексея на византийском престоле (§ 98). Вождю крестоносцев чуждо двоедушие: преданный интересам крестового похода, он не ведет с Алексеем IV двойной игры, а в открытую требует, чтобы тот выполнил свои обязательства перед крестоносцами, памятуя о службе, которую крестоносцы сослужили ему (§ 209). Он же, маркиз, — в числе других баронов, решивших бросить вызов бывшему союзнику и пойти новой войной на Константинополь (§ 210). Бонифаций Монферратский всегда действует в согласии с прочими предводителями (к примеру, при разделе добычи — § 252). Он — безупречный военачальник, и если даже терпит поражение в борьбе с греками за Навплию, то ведь перед ним был «один из могущественнейших городов на свете» (§ 324; ср. § 301).
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Завоевание Константинополя"
Книги похожие на "Завоевание Константинополя" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Жоффруа Виллардуэн - Завоевание Константинополя"
Отзывы читателей о книге "Завоевание Константинополя", комментарии и мнения людей о произведении.