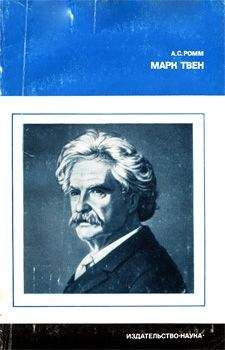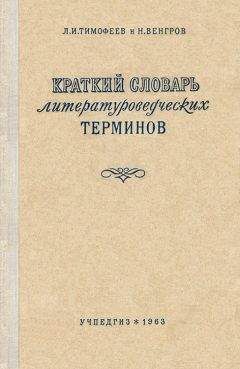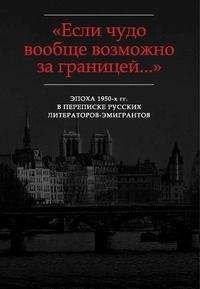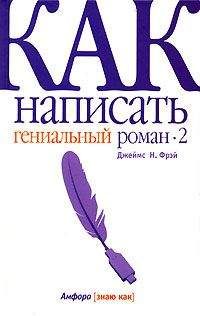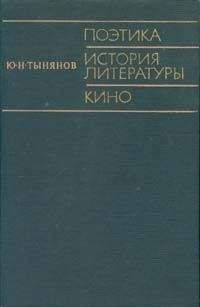Юрий Оклянский - Загадки советской литературы от Сталина до Брежнева

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Загадки советской литературы от Сталина до Брежнева"
Описание и краткое содержание "Загадки советской литературы от Сталина до Брежнева" читать бесплатно онлайн.
Советский классик Константин Федин в течение почти двадцати лет возглавлял Союз писателей СССР. Через судьбу «министра советской литературы» автор прослеживает «пульс» и загадки эпохи. Наряду с Фединым герои книги — М. Горький, И. Сталин, Л. Берия, Н. Хрущев, аппаратчики ЦК и органов безопасности, естествоиспытатель В. Вернадский, И. Бунин, А. Толстой, Е. Замятин, Стефан Цвейг, Б. Пастернак, А. Ахматова, А. Твардовский, А. Солженицын, а также литераторы более молодого поколения. Ю. Трифонов, любимый из учеников Федина, поэты А. Вознесенский, Е. Евтушенко… Автор также свободно пускает в ход мемуарный арсенал — использует в книге собственную переписку с К. Фединым и наблюдения от многолетних встреч с ним. Признанный биограф и исследователь былого, издавший более тридцати книг, Юрий Оклянский ведет исторические разыскания живо и увлекательно…
В этих словах уже содержалось, по существу, и название беседы, которое мне оставалось лишь высмотреть и выставить вскоре в журнальной публикации: «Распахнутые окна (Из бесед о писательском труде)». Позже со ссылкой на мою запись Федин под тем же названием включил беседу в том 9 своего Собрания сочинений.
А ведь было это всего только интервью или беседа!..
Первая же ее публикация сопровождалась стычкой журнальных самолюбий, даже некой мелочной катавасией, характерной не только для тогдашних нравов. Причем раздутая пустяковина бумерангом вернулась к Федину. И ему пришлось снова ею заниматься. Но полотна литературной истории всегда ткались из пустяков. Поэтому не откажу себе в удовольствии воспроизвести этот сюжет.
«Возможно, “Запись” придется к месту в “Вопросах лит[ерату]ры”, но можно предложить и другим журналам, — решайте Вы…» — написал Федин в сопроводительной записке.
В «Вопросах литературы» я был постоянным автором и о работе над беседой с Фединым по теме моей диссертации как-то упомянул главному редактору журнала Виталию Михайловичу Озерову.
Разговор был на ходу, чисто информационный, и ни одну из сторон ни к чему не обязывал. Во всяком случае, так мне казалось. Никакого участия в подготовке беседы редакция не принимала, а обещания опубликовать результат трудов непременно на страницах этого журнала я не давал. Я передал беседу в журнал «Знамя», и после одобрения стал ждать результатов.
Существует так называемая бушменская мораль, гласящая: «Моя жена — моя жена и твоя жена — тоже моя жена». Виталий Михайлович Озеров писал статьи и книги на тему «Образы коммунистов в советской литературе». В писательской среде о нем ходила пословица: «Великий критик Озеров рожден от двух бульдозеров». В деловой практике, когда не грозил отпор, он иногда склонялся к той самой морали.
Однажды в моей аспирантской комнате на Садово-Кудринской раздался телефонный звонок. Звонил сотрудник журнала «Вопросы литературы» и мой приятель еще университетских времен Дима Н., ладный и красивый брюнет, с голубыми глазами, женатый на индуске. В журнале он занимался как раз такого рода творческими беседами с писателями на темы профессионального мастерства.
— Слушай, — сказал Дима, — действительно ли ты отдал беседу с Фединым в журнал «Знамя»?
— А разве нельзя?! — в свою очередь не без яда поинтересовался я. — Кто тебе сказал и откуда ты это знаешь?
— Сказал мне, — со свойственной ему серьезной обстоятельностью в деталях сообщил Дима, — наш главный редактор Виталий Михайлович Озеров. Он откуда-то узнал и просит тебя забрать эту беседу из «Знамени» и передать нам…
— Но это невозможно!? Делать этого я не могу и не буду! — возразил я. — Никаких обязательств на этот счет перед вашим журналом у меня нет. Ты же и сам знаешь!
— Но Виталий Михайлович просит и требует!
— А я не буду! Так ему и скажи! — и я в сердцах кинул трубку. Через полчаса звонок прозвенел снова. Это опять был Дима Н.
— Я сообщил Озерову наш разговор, — спокойно и вдумчиво излагал он. — Но Виталия Михайловича твой ответ не устраивает. Он говорит, что, если ты сейчас же не исправишь ситуацию, он будет жаловаться на тебя Федину…
Это уже походило на неуклюжий приятельский розыгрыш.
— Знаешь что?! — вскипел я — Скажи своему Виталию Михайловичу. Чтобы он шел на х…!
— Так и передать? — невозмутимо спросил Дима.
— Так и передай!
Дима Н. был способным литературоведом. Писал неплохие книги о сатире и юморе. Но сам в быту чувством юмора не обладал. Дружеским розыгрышем, к сожалению, все это не оказалось. А уж в какой форме Дима донес мой ответ до ушей шефа, гадать не берусь.
Несколько дней спустя через секретаря В.К. Михайлову меня пригласил к себе Федин. И показал разгневанное письмо В.М. Озерова. Вероятно, оно и сейчас где-то сберегается в архивах. Помню лишь заключительную убийственную фразу, растирающую в порошок вышедшего из повиновения молодого хулиганствующего писаку: «…такие материалы должны делаться чистыми руками».
Такого градуса достигла обида литературного функционера, которому не оказали должного почтения и помешали в очередной раз подластиться к руководству писательского Союза.
— Ну что же вы так недипломатично себя ведете! — после прочтения письма корил меня Федин. — Он же глава нашего марксистского литературоведения… Все разрешает и вяжет. Трактует и ставит на свое место. С ним надо обращаться умело. Я ему напишу.
Не знаю, что именно написал Федин Озерову. Не только об истории с беседой и обо мне, но, очевидно, и о самом Озерове. Потому что при ближайшей встрече в стенах своего журнала Виталий Михайлович обнял меня за плечи и нежно говорил со мной, как с ближайшим другом. Завел к себе в кабинет, расспрашивал о ближайших планах, ворковал. «Распахнутые окна» были опубликованы там, куда я их и передал («Знамя», 1965, № 8). Условились, что следующие мои беседы по психологии творчества (с И.Г. Эренбургом и Л.M. Леоновым) будут печататься в «Вопросах литературы». Так мы и сделали.
Тут снова вспоминается мне эпизод 1951 года с Юрием Трифоновым при подаче тем документов для приема в Союз писателей.
С его анкетной проделкой в сведениях об отце в жестокие времена. Там, конечно, дело было посерьезней. Но удивительно, как неизменно ввязывался Федин и покрывал даже мальчишеские выходки своих питомцев.
Как и многие писатели, первую серьезную выучку К.А. прошел в журналистике. И хотя по складу натуры принадлежал к тем, кто «любит писать не вприпрыжку», а посидеть, подумать, «поскрипеть перышком» (собственные его слова), — «искровые разряды» на стыке литературы и окружающей реальности возбуждали и радовали его, как подтверждение могущества и практической надобности слова.
Основным родом письма для себя Федин избрал большеформатную психологическую прозу, а роман или повесть воздействуют на действительность опосредствованно, через изменения в человеческом сознании, через воспитание души. Однако сверх того бывают и случаи прямого, публицистического воздействия художественной прозы на современность. В них К.А. видел признак меткости типического обобщения, и такие эпизоды из своей более чем полувековой литературной биографии выделял.
Из-за значимости темы особенно запомнилась мне беседа, касавшаяся повести «Трансвааль» (1927). Национальные мотивы и смелая антиколхозная стихия этого вроде бы небольшого художественного полотна Федина делают автора открывателем линии, продолженной рассказом Андрея Платонова «Усомнившийся Макар» (1929) и его же «бедняцкой хроникой» «Впрок» (1931).
Но как же возникала и складывалась повесть, которую автор иногда даже называл рассказом?
Было это на даче в Переделкине, в рабочем кабинете, с открытыми стеллажами, заставленными длинными рядами книг. Летний день клонился к закату, и в комнату вплывала особая сосредоточенная тишина.
Что чувствует писатель, когда остается один на один у полок, где собраны созданные им книги?
Вот опыт и труд его жизни, его совесть, вера, колебания, любовь и отчаяния, заключенные в бумажных, ледериновых, кожаных переплетах, книги, которые странствуют сейчас по разноязычной земле. А вот он сам — мастер, давно изведавший разницу между успехом и подлинной творческой удачей. Что испытывает он, глядя в тихий час уединения на полки с длинными рядами своих книг?
Мелькнула схожая мысль, и я спросил об этом, понимая, впрочем, что ответ едва ли может быть однозначным.
— Знаете что, — сказал К. А., — давайте-ка я покажу вам лучше одну папочку, — как бы поточнее выразиться? — досье на одного моего героя…
Как бы мы доподлинно ни знали, что герой хрестоматийно известного произведения имеет реальный прототип в жизни, это все равно не избавляет от сложной смеси любопытства и удивления, если бы случилось, что такой человек внезапно вошел в комнату.
Фотографии, которые достал из папки Федин, вызывали близкое чувство. Пугающе выкатив искусственный стеклянный глаз и лаская зрителя другим, приметливым и смелым глазиком, на нас глядел Юлиус Саарек — прообраз Вильяма Сваакера из повести «Трансвааль».
— Каков! — сказал Константин Александрович. — Сколько им было понадеяно… Фотографии прислал один читатель, историк М.И. Погодин. Между прочим, потомок того самого историка и писателя Михаила Петровича Погодина, еще с Гоголем дружившего…
На старинной фотографии 1914–1915 годов Юлиус Андресович стоит, молодцеватый, в черной широкополой шляпе и сюртуке, со стеком в руках. На обороте портрета Федин сделал пометку, подтверждавшую, что личных встреч с этим человеком у него не было: «Изображен на портрете небезызвестный г-н Саарек, заочно, — т.е. по рассказам знавших Саарека — послуживший мне прототипом Вильяма Сваакера, героя рассказа “Трансвааль”». Какова же была она, психология творчества, на сей раз?
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Загадки советской литературы от Сталина до Брежнева"
Книги похожие на "Загадки советской литературы от Сталина до Брежнева" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Юрий Оклянский - Загадки советской литературы от Сталина до Брежнева"
Отзывы читателей о книге "Загадки советской литературы от Сталина до Брежнева", комментарии и мнения людей о произведении.