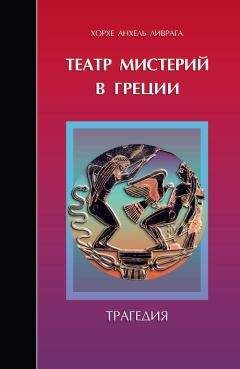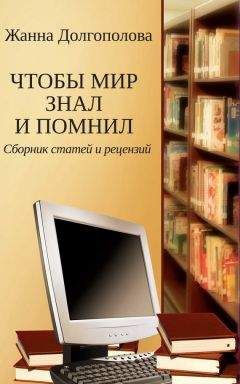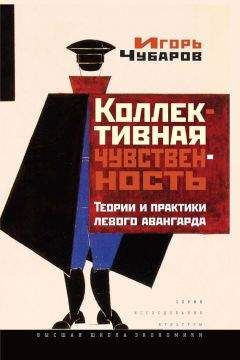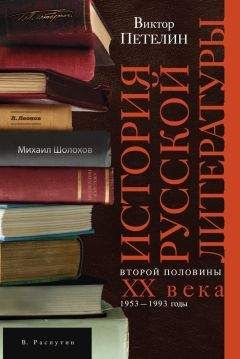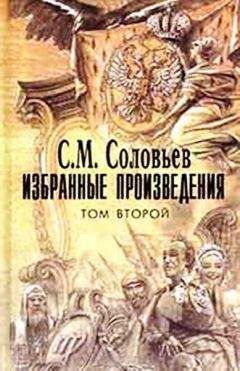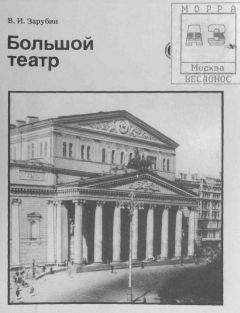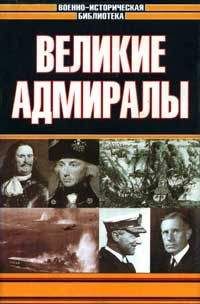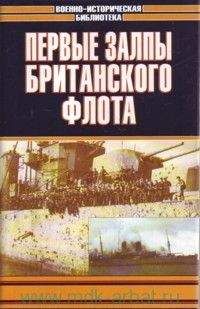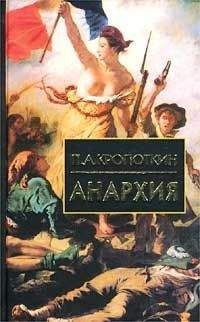Николай Евреинов - Демон театральности
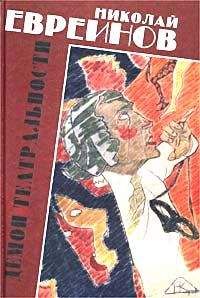
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Демон театральности"
Описание и краткое содержание "Демон театральности" читать бесплатно онлайн.
Сборник произведений одной из ярчайших личностей русского Серебряного века, режиссера, драматурга, историка театра, теоретика искусства Николая Евреинова (1879–1953) включает его основные теоретические сочинения: «Театр как таковой», «Театр для себя», а также статьи: «Введение в монодраму» и «Демон театральности». Работы Евреинова сопровождают обширный комментарий и справочный аппарат.
349
См. его лекции о театре.
350
Говорю «хотя бы», так как знаменитый психолог В. Вундт в своей книге «Фантазия как основа искусства» требует большого, а именно признания, что вообще всякий человек всегда живет не в действительном мире, но в воображаемом.
351
Вспомните шопенгауэровское изречение: «Люди слушаются не того, кто говорит умнее всех, а того, кто говорит громче всех».
352
В «По ту сторону добра и зла» Ницше учит: «Чем абстрактнее истина, которую ты хочешь преподать, тем сильнее ты должен обольстить ею еще чувства» (§ 128). [Ср.: Ницше Ф. Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 298. — Ред.] «Что такое есть данный человек, это начинает открываться тогда, когда ослабевает его талант, — когда он перестает показывать то, что он может. Талант — тоже наряд: наряд — тоже маска» (§ 130). [Ср.: Ницше Ф. Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 299. — Ред.]
353
В 119‑м из посмертных афоризмов Ницше читаем: «Страстен, но бессердечен и театрально-притворен: таковы были греки, таковы были и их философы, в том числе и Платон». (Курсив мой.) [Ницше Ф. Собр. соч.: В 10 т. М.: М. В. Клюкин, 1901. Т. 9. Совр. изд.: Ницше Ф. Философия в трагическую эпоху // Избр. произведения: В 3 т. М.: REFL-book, 1994. Т. 3. С. 342. — Ред.] Впрочем, еще Эпикур называет Платона и платоников «Dionysokolax», т. е. «льстецами Диониса» (популярная античная кличка актеров).
354
См. совершенно убедительные примеры в моей книге «Театр как таковой».
355
«Преувеличения всякого рода так же свойственны периодической печати, как сценическому искусству — говорит Шопенгауэр; — ибо важно наделать по возможности больше шуму из всякого пустого случая» (см. «Эстетические заметки». — Курсив мой) [А. Шопенгауэр «Paralipomena». Гл. XIX: «К метафизике прекрасного и эстетике», § 233: «Преувеличение всякого рода так же характерно для газетного писательства, как для драматического искусства: из каждого случая здесь требуется сделать как можно больше» (Шопенгауэр А. Собр. соч.: В 6 т. Т. 5. С. 347). — Ред.].
356
«Какое наслаждение писать, — сознается Флобер в одном из писем, относящихся ко времени создания “Госпожи Бовари”, — не быть больше собою, претворяться в изображаемые существа! Сегодня например, одновременно и мужчина, и женщина, и любовник, и любовница, я катался верхом в лесу в осенний полдень под желтою листвой, и я был лошадьми, листьями, ветром, речами моих героев и красным солнцем, от которого они опускали веки глаз, отуманенных любовью» (см. Paulhan, «Psychologie de l’invention», 41).
По Ницше, «литератор, в сущности, есть актер — именно он играет “знатока”, “эксперта”…» Литератор «почти все представляет… играет роль и замещает сведущего человека» (см. «Веселую науку», § 361 и 366) [Ср.: Ницше Ф. Соч.: В 2 т. Т. 1. С. 688, 692. — Ред.].
357
По Шопенгауэру, «ритм и рифма — это… маска [Гл. 37 второго тома “Мир как воля и представление”: “Размер и рифма — это оковы, но в то же время и покров, который набрасывает на себя поэт и из под которого он позволяет себе говорить так, как иначе не посмел бы сказать: именно это и доставляет нам радость. <…> Если бы мы могли заглянуть в секретную мастерскую поэтов, то мы в десять раз чаще нашли бы, что мысль приискивается к рифме, чем рифма к мысли; да и в последнем случае дело нелегко обходится без некоторых уступок со стороны мысли. <…> Даже тривиальные мысли получают, благодаря ритму и рифме, некоторый оттенок значительности и щеголяют в этом украшении, {448} подобно тому как заурядные лица наряженных девушек привлекают к себе чужие взоры” (Шопенгауэр А. Собр. соч.: В 6 т. Т. 2. С. 357–359). — Ред.], которую поэт надевает для того, чтобы под покровом ее высказать то, чего иначе он не мог бы сообщить нам: это-то нам и приятно… И если бы можно было проникнуть в таинственные мастерские поэтов, то мы бы узнали, что мысль в 10 раз чаще приискивается в рифме, чем наоборот, и даже в последнем случае дело не обходится без некоторой уступки со стороны мысли. Даже тривиальные мысли становятся как будто значительными, если облечь их в ритм и рифмы, подобно тому, как девушки с обыкновенной наружностью кажутся красивее, когда одеты со вкусом и в блестящем наряде» (см. «К эстетике поэзии»).
358
«Как? Великий человек? — спрашивает Ницше по ту сторону добра и зла и отвечает — Я все еще вижу только актера своего собственного идеала» (см. § 97) [Ср.: Ницше Ф. Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 295. — Ред.].
359
См. «Происхождение трагедии из духа музыки».
360
См. «По ту сторону добра и зла», § 256.
В частности, поучительны данные о сценико-пластических эффектах, обусловливаемых музыкой, можно найти у Т. Рибо в его книге «Творческое воображение», изобилующей примерами, как симфония может вызвать импровизацию подходящего к ней либретто (2‑я симфония Бетховена, например, соблазняет «нарисовать балет»), как у людей, знакомых с живописью, музыка вообще вызывает «оживленные сцены», причем случается, что композитор, сочиняя, представляет себе непременно «пляшущие фигуры» и пр. и т. п.
361
Еще Вальтер Скотт правильно заметил в «Айвенго», что «человеку несравненно легче прощаются серьезные прегрешения против благовоспитанности, или даже против нравственности, нежели незнакомство с малейшими предписаниями моды или светских приличий».
362
См. М. Огир «Реклама как фактор внушения».
363
«Театр», лекции Карла Боринского, перевод Б. В. Варнеке, стр. 103–104.
364
См. «Необыкновенные страдания одного директора театров».
375
Гордон Крэг, отравленный вполне понятным и целиком разделяемым мною отвращением к современному общественному театру, опирающемуся на косное искусство грубого актера, обнаруживает в своих истинно талантливых умствованиях каждый раз reductio ad absurdum [доведение до нелепости (как способ доказательства) (лат.). — Ред.], когда исходит из произвольного представления, будто «в раннюю эпоху человеческое тело не применялось как материал для театрального искусства…». Такая «историческая» ошибка в устах подлинного мастера режиссуры вынуждает меня извиниться перед обществом за своего любимца в его же собственных (как «знатока театра») интересах и кстати объяснить, что лишь благодаря сей, ставшей роковой, ошибке Крэг вынужден был столько раз печатно осуждать театральность, в которой альфа и омега всякого театра, не исключая и гордон-крэговского [В работах Крэга, посвященных марионетке, речь идет о первоначальном формировании театра как самостоятельного вида искусства в рамках кукольного театра, а не драматического. — Ред.].
377
Кстати сказать, вот понятие, которое в нашей критической литературе о театре так и пестрит на страницах с тех пор, как я опубликовал (в 1908 г. <8 сентября> в газете «Утро») свою «Апологию театральности». До моего исследования театральности, этому понятию придавали совершенно иной смысл, превратный и, можно сказать, обратный. Теперь о театральности пишут так, как будто положительный смысл этого понятия (раскрытый мною и только мною) был издревле известен. Но так как торопливые (в деле присвоения чужого) критики плохо у меня научились словоупотреблению этого сложного понятия, то в их писаниях «театральность» кажется неубедительной и легко сбивающей с толку. Ввиду этого, а также ввиду того, что понятие театральности является эссенциальным в данной книге, я рекомендовал бы читателю, не знакомому с моей книгой о театральности — «Театр как таковой», — обратить свой взыскующий убедительности взор на ее страницы.
381
Сравни — Andree, Ethnolographische Parallelen u. Vergleiche, стр. 91 и В. Харузина [Харузина Вера Николаевна (1866–1931) — первая женщина — профессор этнографии в России. Занималась преимущественно проблемами верований и фольклором.] «Игрушки у малокультурных народов» («Игрушка», изд. Сытина, стр. 130–131).
387
См. вышеназванную статью В. Харузиной.
388
«Воспитательное значение игрушки» В. Малахиева-Мировича («Игрушка», изд. Сытина).
389
До чего доходит подобное творчество при самом ничтожном для себя материале, показывает следующий пример, приводимый Т. Рибо в его «Творческом воображении»: «Один ребенок питал особенную нежность к букве W и называл ее “милый мой дружище W” (Dear old boy W). Другой, трехлетний, рисуя букву L, прибавил к ней маленький крючок и, пораженный сходством ее с сидящей человеческой фигурой, вдруг вскрикнул: “Ах, он сидит!” В другой день, нарисовав F навыворот, он заметил это, поставил слева другую букву правильно и тотчас вскрикнул: “Они между собою разговаривают!”».
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Демон театральности"
Книги похожие на "Демон театральности" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Николай Евреинов - Демон театральности"
Отзывы читателей о книге "Демон театральности", комментарии и мнения людей о произведении.